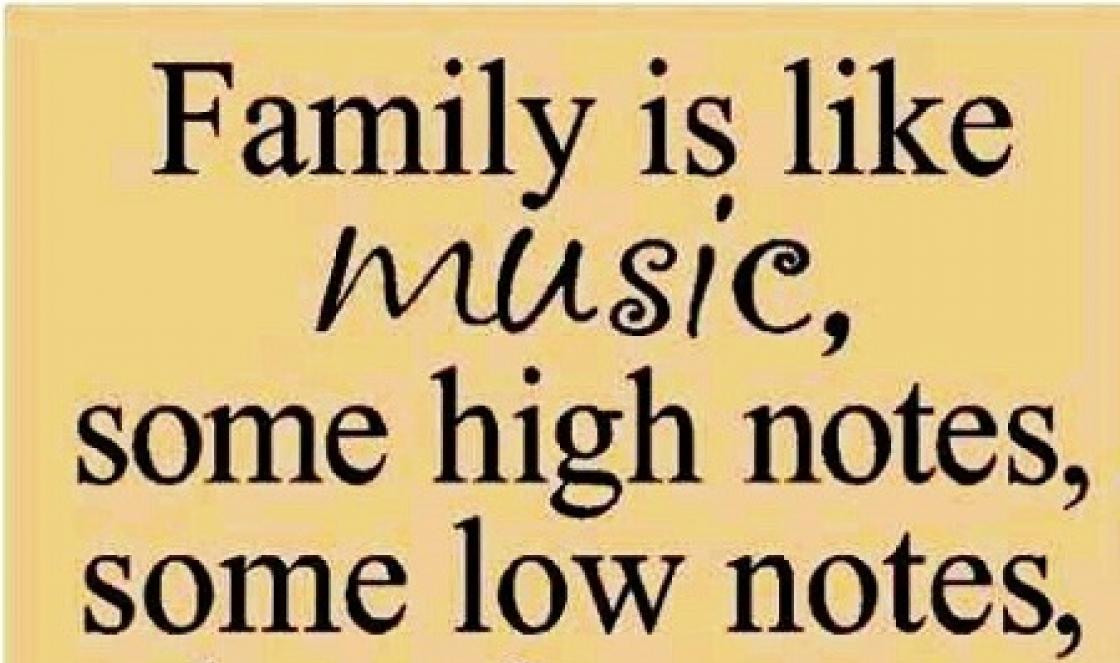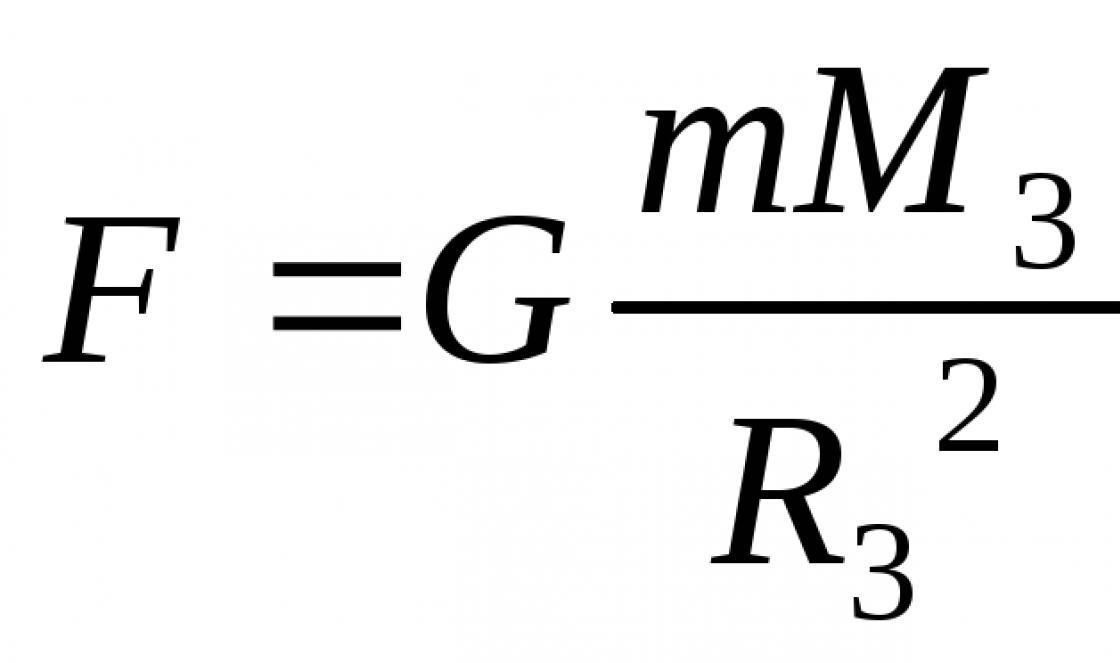Поделилась в Фейсбуке воспоминаниями о своем прадеде. Он был из де Виттов, древней голландской аристократической династии, одна из ветвей которой стала в России носить фамилию Витте, и чуть было не погиб в большевистской тюрьме. В тех жутких условиях он по мере сил навел чистоту и санитарию в камере и вот — связь времен и перекличка эпох — спустя сто лет его правнучка вынуждена самостоятельно наводить чистоту в больничной палате великой Америки!
Обслуживающий персонал разбежался с приходом Трампа и давлением на нелегальных эмигрантов, а больше никто не хочет идти на тяжелую, грязную и малооплачиваемую работу. Зато у моего сына, монреальского адвоката по социальным делам, прибавилось работы — несколько десятков тысяч нелегалов бежали из США в Канаду и он помогает им устроиться.
Юрий Кирпичев
С тех пор прошло почти сто лет. Я в Америке. Сейчас живу в больничной палате, где лежит мой дорогой муж, он очень болен. Нелегальные работники, которые здесь раньше все мыли и чистили, разбежались или их депортировали, так что убираться в палатах практически некому. Пару раз заглянула усталая мексиканка со шваброй и несколько раз провела ею взад-вперёд в середине палаты. Я нашла на Гугле ближайший супермаркет, дошла до него через всякие автострады и мост, накупила моющих средств и стала ими выскребать палату. И тут произошло Deja Vu! Ползаю на коленях, скребу пол и вдруг ясно увидела или представила Диди как он моет тюремную камеру в 1921 году…
P.S. Ещё не дай Бог dreamers вышлют. Самые профессиональные, добрые сострадательные медсестры и медбратья — это они. Молодые, чудесные. Одного вывезли сюда, когда ему было 3 года, другого в 6 лет, третью в 4 года и так далее. Когда муж ещё в Нейплсе лежал в так называемом «госпитале» я воочию с ними столкнулась. Они знают больше, чем тамошние так называемые «врачи”, если бы не они… и здесь в Майами тоже они.
P.P.S. Елена, сестра моей бабушки, и ее первый муж Борис Волков бежали из Монголии в Китай, а оттуда перебрались в США. Их внуки живут в Канаде. Борис Волков был колчаковским офицером, поэтом и писателем, автором самых известных и достоверных мемуаров об Унгерне, которые хранятся в Гуверовском Центре.
После развода с ним, Елена вышла замуж за Грэгори Силвермастера, крупного правительственного чиновника и руководителя самой большой в истории США шпионской сети, работавшей на СССР. Леночку я знала прекрасно, она каждый год приезжала в Москву, начиная с 60-х сначала с Грэгом, а после его смерти одна. Но об их деятельности я узнала только здесь, в Штатах… Был шок…
Борис Аполлонович Шумаков, женатый на Ксении, сестре мой бабушки, был учеником Диди и академиком ВАСХНИЛ. Его сын, Борис Борисович Шумаков, также академик РАСХН. Его дочь Ксения прислала воспоминания дяди Бори о Диди. Вот кусочек из них.
«Петр Александрович Витте, хотя был знатного рода, но ему присущи были душевная доброта, простота в общении с людьми, независимо от их образования, социального положения. Он был настолько многогранным человеком, что наряду с чисто профессиональными навыками биолога, агронома, мелиоратора, почвоведа, великолепно знал физиологию человека, владел основами медицины. Был случай, когда он, работая на Тингуте, делал экстренные операции, вплоть до аппендицита.
Он был великолепным плотником, столяром, слесарем и механиком. В моей памяти с детства осталось навсегда впечатление от первого посещения кабинета дедушки. Мы, внуки и внучки (а нас было пять человек), называли дедушку – диди, а бабушку – биби. Видимо, кто-то из взрослых нам привил это, а может быть, кто-то из нас стал так называть дедушку с бабушкой, и это передалось всем по цепочке. Это было еще до войны в 1939 или 1940 году.
В одно из посещений с мамой дедушки и бабушки, а жили они в Новочеркасске, по адресу ул. Просвещения 101 в отдельном деревянном домике, дедушка спросил, сколько мне лет. Я ответил, что уже шесть, на что он сказал мне, что я уже большой и пора мне обучаться мужскому ремеслу, взял за руку и повел в свой кабинет. Надо сказать, что кабинет считался святым местом, и вход туда был возможен только с разрешения дедушки, причем правило это касалось всех, и детей и взрослых.
Мое детское воображение было потрясено тем, что я увидел, войдя в кабинет. Посередине большой комнаты на большой деревянной колоде стояла большая наковальня. У окна стоял письменный стол, на котором лежали бумаги и книги. С левой стороны от стола вся стена была в книжных стеллажах, заполненных книгами, с правой стороны вдоль стены были тоже стеллажи, специально приспособленные для инструментов и все уставленные различными молотками, клещами, щипцами, кусачками, напильниками, стамесками, ножовками, лобзиками и т.д. и т.п. У стены, примыкавшей к входной двери, была большая печь с горном для накаливания метала и выполнения кузнечных работ.
Войдя в кабинет, дедушка ознакомил меня с мастеровой частью кабинета и сказал, что мне пора учиться кузнечному делу и первым шагом на этом поприще является изготовление гвоздя. Он взял, отрубил зубилом на наковальне кусок проволоки и наглядно показал мне, как с помощью плоскогубцев, молотка и наковальни из этого куска проволоки делается гвоздь. У него так быстро и ловко был изготовлен этот гвоздь, что, я подумал, и мне это не составит большого труда. Однако, взявшись за дело, я убедился, что это не так просто, как показалось, глядя на умелые действия дедушки.
Дедушка, чтобы не смущать меня, вышел из кабинета и предоставил мне самому решать все возникающие проблемы. Через некоторое время, несмотря на разбитые пальцы и ногти, у меня получилось какое-то подобие гвоздя, и я радостный вбежал в комнату и показал дедушке, он посмотрел, сказал, что на первый раз получилось неплохо, и чтобы я приходил к нему для приобретения дальнейших мужских навыков. Так, благодаря дедушке, я стал постигать мужские премудрости, за что ему я бесконечно благодарен.
П.А. Витте, находясь в Читинской тюрьме, как и все заключенные, выполнял все работы. Там произошел такой случай. Заключенных утром, после завтрака построили на тюремной площади для формирования различных рабочих бригад. Служащий тюрьмы, стоя перед строем заключенных, стал отбирать нужных им мастеровых, для чего подавал команды. Кто владеет плотницким мастерством шаг вперед, кто столярным, слесарным и т.д. Дедушка, владея всеми этими профессиями, соответственно делая шаги, подтверждал это. Надзиратель был настолько удивлен, что, оторопело смотря, сказал, какой же ты плотник, столяр, кузнец и каменщик, если ты барон. На что дедушка ответил, барон, ни барон, а если не веришь, то проверь в работе. Проверка убедила тюремных надзирателей, что действительно барон мастер на все руки, и не просто мастер, а мастер высокого разряда».
(1873, Волынская губ. — 1952, Новочеркасск), ученый-мелиоратор, профессор (1930). Учился в Киевском университете на отделении естественных наук физико-математического факультета, но в 1895 перевелся в Московский университет и окончил его в 1898 с дипломом первой степени по специальности «Агрономическая химия».
До 1900 занимался исследованием почв в Волынской губ., затем в экспедиции по орошению на юге России. Его назначают зав. Михайловской ирригационной станцией в Донской обл. С 1901 он зав. Тингутинским опытным орошаемым участком в Астраханской губ. За 15 лет работы превращает участок в оазис, организует там на базе орошения образцово-показательное хозяйство. Несколько раз станцию посещали академики В. Р. Вильямс, А. Н. Костяков и дали высокую оценку его работам.
В 1909 В. назначен ст. специалистом с.-х. части по департаменту земледелия с оставлением в должности зав. Тингутинским орошаемым участком. В 1914 департаментом земледелия командируется в Монголию.
В 1922 В. назначается зав. Персиановской опытной станцией Донского института сельского хозяйства и мелиорации (ДИСХиМ) и преподает студентам земледелие с использованием мелиорации. После разделения в 1930 ДИСХиМа на два института В. назначается зав. кафедрой растениеводства на мелиорируемых землях Северо-Кавказского института водного хозяйства и мелиорации (СКИВХиМ), который реорганизуется в Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт (НИМИ). В этом же году ему присваивается ученое звание профессора кафедры растениеводства на мелиорируемых землях. В. работал в нем зав. кафедрой земледелия на мелиорируемых землях до последних дней своей жизни. Большая часть его научной деятельности посвящена рисосеянию в новых регионах возделывания: Северный Кавказ, Краснодарский край, Ростовская обл., Нижнее Поволжье, юг Украины. Он вывел массовым отбором два сорта риса, не требующих затопления: «Белый СКОМС» и «Бурый СКОМС».
- Category: ,
Vera Winn поделилась в Фейсбуке воспоминаниями о своем прадеде. Он был из де Виттов, древней голландской аристократической династии, одна из ветвей которой стала в России носить фамилию Витте, и чуть было не погиб в большевистской тюрьме. В тех жутких условиях он по мере сил навел чистоту и санитарию в камере и вот - связь времен и перекличка эпох - спустя сто лет его  правнучка вынуждена самостоятельно наводить чистоту в больничной палате великой Америки!
правнучка вынуждена самостоятельно наводить чистоту в больничной палате великой Америки!
Обслуживающий персонал разбежался с приходом Трампа и давлением на нелегальных эмигрантов, а больше никто не хочет идти на тяжелую, грязную и малооплачиваемую работу. Зато у моего сына, монреальского адвоката по социальным делам, прибавилось работы - несколько десятков тысяч нелегалов бежали из США в Канаду и он помогает им устроиться.
Юрий Кирпичев
С тех пор прошло почти сто лет. Я в Америке. Сейчас живу в больничной палате, где лежит мой дорогой муж, он очень болен. Нелегальные работники, которые здесь раньше все мыли и чистили, разбежались или их депортировали, так что убираться в палатах практически некому. Пару раз заглянула усталая мексиканка со шваброй и несколько раз провела ею взад-вперёд в середине палаты. Я нашла на Гугле ближайший супермаркет, дошла до него через всякие автострады и мост, накупила моющих средств и стала ими выскребать палату. И тут произошло Deja Vu! Ползаю на коленях, скребу пол и вдруг ясно увидела или представила Диди как он моет тюремную камеру в 1921 году…
P.S. Ещё не дай Бог dreamers вышлют. Самые профессиональные, добрые сострадательные медсестры и медбратья - это они. Молодые, чудесные. Одного вывезли сюда, когда ему было 3 года, другого в 6 лет, третью в 4 года и так далее. Когда муж ещё в Нейплсе лежал в так называемом «госпитале» я воочию с ними столкнулась. Они знают больше, чем тамошние так называемые «врачи”, если бы не они… и здесь в Майами тоже они.
P.P.S. Елена, сестра моей бабушки, и ее первый муж Борис Волков бежали из Монголии в Китай, а оттуда перебрались в США. Их внуки живут в Канаде. Борис Волков был колчаковским офицером, поэтом и писателем, автором самых известных и достоверных мемуаров об Унгерне, которые хранятся в Гуверовском Центре.
После развода с ним, Елена вышла замуж за Грэгори Силвермастера, крупного правительственного чиновника и руководителя самой большой в истории США шпионской сети, работавшей на СССР. Леночку я знала прекрасно, она каждый год приезжала в Москву, начиная с 60-х сначала с Грэгом, а после его смерти одна. Но об их деятельности я узнала только здесь, в Штатах… Был шок…
Борис Аполлонович Шумаков, женатый на Ксении, сестре мой бабушки, был учеником Диди и академиком ВАСХНИЛ. Его сын, Борис Борисович Шумаков, также академик РАСХН. Его дочь Ксения прислала воспоминания дяди Бори о Диди. Вот кусочек из них.
«Петр Александрович Витте, хотя был знатного рода, но ему присущи были душевная доброта, простота в общении с людьми, независимо от их образования, социального положения. Он был настолько многогранным человеком, что наряду с чисто профессиональными навыками биолога, агронома, мелиоратора, почвоведа, великолепно знал физиологию человека, владел основами медицины. Был случай, когда он, работая на Тингуте, делал экстренные операции, вплоть до аппендицита.
Он был великолепным плотником, столяром, слесарем и механиком. В моей памяти с детства осталось навсегда впечатление от первого посещения кабинета дедушки. Мы, внуки и внучки (а нас было пять человек), называли дедушку – диди, а бабушку – биби. Видимо, кто-то из взрослых нам привил это, а может быть, кто-то из нас стал так называть дедушку с бабушкой, и это передалось всем по цепочке. Это было еще до войны в 1939 или 1940 году.
В одно из посещений с мамой дедушки и бабушки, а жили они в Новочеркасске, по адресу ул. Просвещения 101 в отдельном деревянном домике, дедушка спросил, сколько мне лет. Я ответил, что уже шесть, на что он сказал мне, что я уже большой и пора мне обучаться мужскому ремеслу, взял за руку и повел в свой кабинет. Надо сказать, что кабинет считался святым местом, и вход туда был возможен только с разрешения дедушки, причем правило это касалось всех, и детей и взрослых.
Мое детское воображение было потрясено тем, что я увидел, войдя в кабинет. Посередине большой комнаты на большой деревянной колоде стояла большая наковальня. У окна стоял письменный стол, на котором лежали бумаги и книги. С левой стороны от стола вся стена была в книжных стеллажах, заполненных книгами, с правой стороны вдоль стены были тоже стеллажи, специально приспособленные для инструментов и все уставленные различными молотками, клещами, щипцами, кусачками, напильниками, стамесками, ножовками, лобзиками и т.д. и т.п. У стены, примыкавшей к входной двери, была большая печь с горном для накаливания метала и выполнения кузнечных работ.
Войдя в кабинет, дедушка ознакомил меня с мастеровой частью кабинета и сказал, что мне пора учиться кузнечному делу и первым шагом на этом поприще является изготовление гвоздя. Он взял, отрубил зубилом на наковальне кусок проволоки и наглядно показал мне, как с помощью плоскогубцев, молотка и наковальни из этого куска проволоки делается гвоздь. У него так быстро и ловко был изготовлен этот гвоздь, что, я подумал, и мне это не составит большого труда. Однако, взявшись за дело, я убедился, что это не так просто, как показалось, глядя на умелые действия дедушки.
Дедушка, чтобы не смущать меня, вышел из кабинета и предоставил мне самому решать все возникающие проблемы. Через некоторое время, несмотря на разбитые пальцы и ногти, у меня получилось какое-то подобие гвоздя, и я радостный вбежал в комнату и показал дедушке, он посмотрел, сказал, что на первый раз получилось неплохо, и чтобы я приходил к нему для приобретения дальнейших мужских навыков. Так, благодаря дедушке, я стал постигать мужские премудрости, за что ему я бесконечно благодарен.
П.А. Витте, находясь в Читинской тюрьме, как и все заключенные, выполнял все работы. Там произошел такой случай. Заключенных утром, после завтрака построили на тюремной площади для формирования различных рабочих бригад. Служащий тюрьмы, стоя перед строем заключенных, стал отбирать нужных им мастеровых, для чего подавал команды. Кто владеет плотницким мастерством шаг вперед, кто столярным, слесарным и т.д. Дедушка, владея всеми этими профессиями, соответственно делая шаги, подтверждал это. Надзиратель был настолько удивлен, что, оторопело смотря, сказал, какой же ты плотник, столяр, кузнец и каменщик, если ты барон. На что дедушка ответил, барон, ни барон, а если не веришь, то проверь в работе. Проверка убедила тюремных надзирателей, что действительно барон мастер на все руки, и не просто мастер, а мастер высокого разряда».
- Категория: История , Мнение
- ссылка
Vera Winn поделилась в Фейсбуке воспоминаниями о своем прадеде. Он был из де Виттов, древней голландской аристократической династии, одна из ветвей которой стала в России носить фамилию Витте, и чуть было не погиб в большевистской тюрьме. В тех жутких условиях он по мере сил навел чистоту и санитарию в камере и вот — связь времен и перекличка эпох — спустя сто лет его

правнучка вынуждена самостоятельно наводить чистоту в больничной палате великой Америки!
Обслуживающий персонал разбежался с приходом Трампа и давлением на нелегальных эмигрантов, а больше никто не хочет идти на тяжелую, грязную и малооплачиваемую работу. Зато у моего сына, монреальского адвоката по социальным делам, прибавилось работы — несколько десятков тысяч нелегалов бежали из США в Канаду и он помогает им устроиться.
Юрий Кирпичев
Прадедушку, Пётра Александровича Витте (домашнее имя Диди) арестовали в декабре 1921 года в Урге (нынешний Улан-Батор), после того как красные разгромили отряды Унгерна. При обыске в доме забрали не только ценные вещи, но и бумаги, письма, фотографии и старинное родословное древо Витте, начинавшееся в Голландии, когда Витте ещё были не Витте, а де Витт. Бабушка мне рассказывала об этом древе то, что запомнила. В 1921 году ей было 16 лет.
Кроме Диди красные арестовали и других людей, в том числе евреев, которых Диди прятал от унгеровских бандитов в подвале «Консульского дома», в котором он жил с семьей: прабабушкой Верой Павловной (в девичестве Красовской, меня назвали в ее честь) и детьми Борей, Шуриком, Леночкой, Володей и моей бабушкой Иринькой. Старшая дочь Ксения октябрьский переворот застала в Петрограде, где училась на курсах.
В Ургу семья попала в 1914 году, когда Диди предложили участвовать в экспедиции по исследованию Внутренней Монголии, которую сначала возглавлял Сергей Андреевич Козин, но вскоре занялся другими делами, передав руководство экспедицией Диди. После смены режима в России он работал на местное правительство и при Унгерне был советником Верховного Ламы Богдо-гегена.
Арестованных погнали пешком в Ново-Николаевск. По дороге при приближении к богатым сибирским поселениям охранники говорили арестованным: «Мы отстанем, а вы жалуйтесь и ругайте большевиков». Арестованные так и делали, их жалели и щедро наделяли провизией, большую часть которой у них потом отбирали охранники. В Ново-Николаевске всех посадили в тюрьму. Руководил ВЧК там Матвей Берман, которого называли «Кровавый Мальчик».
Конечно, шансов выйти из этой тюрьмы у Диди не было никаких. «Барон, царский служащий, сотрудничал с Японцами, с Унгерном, дочь (Леночка) замужем за колчаковским офицером» и прочие контрреволюционные грехи. Но через полтора года Берман, наконец, стал вызывать арестованных на допрос. Он освободил евреев, которых Диди спас от смерти, рискуя при этом жизнью своей и своей семьи. Перед выходом те сказали: «Не беспокойтесь, Петр Александрович, вас тоже скоро выпустят».
И действительно, поговорив с Диди, «Кровавый Мальчик» его освободил и при этом дал какую-то бумагу, чтобы ему не препятствовали в переезде в Новочеркасск, куда к тому времени переехала старшая Ксеничка с мужем, Борисом Шумаковым. Тем временем оставшаяся в Монголии часть семьи перебралась в Китай, но это уже другая история.
С тех пор прошло почти сто лет. Я в Америке. Сейчас живу в больничной палате, где лежит мой дорогой муж, он очень болен. Нелегальные работники, которые здесь раньше все мыли и чистили, разбежались или их депортировали, так что убираться в палатах практически некому. Пару раз заглянула усталая мексиканка со шваброй и несколько раз провела ею взад-вперёд в середине палаты. Я нашла на Гугле ближайший супермаркет, дошла до него через всякие автострады и мост, накупила моющих средств и стала ими выскребать палату. И тут произошло Deja Vu! Ползаю на коленях, скребу пол и вдруг ясно увидела или представила Диди как он моет тюремную камеру в 1921 году…
P.S. Ещё не дай Бог dreamers вышлют. Самые профессиональные, добрые сострадательные медсестры и медбратья — это они. Молодые, чудесные. Одного вывезли сюда, когда ему было 3 года, другого в 6 лет, третью в 4 года и так далее. Когда муж ещё в Нейплсе лежал в так называемом «госпитале» я воочию с ними столкнулась. Они знают больше, чем тамошние так называемые «врачи”, если бы не они… и здесь в Майами тоже они.
P.P.S. Елена, сестра моей бабушки, и ее первый муж Борис Волков бежали из Монголии в Китай, а оттуда перебрались в США. Их внуки живут в Канаде. Борис Волков был колчаковским офицером, поэтом и писателем, автором самых известных и достоверных мемуаров об Унгерне, которые хранятся в Гуверовском Центре.
После развода с ним, Елена вышла замуж за Грэгори Силвермастера, крупного правительственного чиновника и руководителя самой большой в истории США шпионской сети, работавшей на СССР. Леночку я знала прекрасно, она каждый год приезжала в Москву, начиная с 60-х сначала с Грэгом, а после его смерти одна. Но об их деятельности я узнала только здесь, в Штатах… Был шок…
Борис Аполлонович Шумаков, женатый на Ксении, сестре мой бабушки, был учеником Диди и академиком ВАСХНИЛ. Его сын, Борис Борисович Шумаков, также академик РАСХН. Его дочь Ксения прислала воспоминания дяди Бори о Диди. Вот кусочек из них.
«Петр Александрович Витте, хотя был знатного рода, но ему присущи были душевная доброта, простота в общении с людьми, независимо от их образования, социального положения. Он был настолько многогранным человеком, что наряду с чисто профессиональными навыками биолога, агронома, мелиоратора, почвоведа, великолепно знал физиологию человека, владел основами медицины. Был случай, когда он, работая на Тингуте, делал экстренные операции, вплоть до аппендицита.
Он был великолепным плотником, столяром, слесарем и механиком. В моей памяти с детства осталось навсегда впечатление от первого посещения кабинета дедушки. Мы, внуки и внучки (а нас было пять человек), называли дедушку – диди, а бабушку – биби. Видимо, кто-то из взрослых нам привил это, а может быть, кто-то из нас стал так называть дедушку с бабушкой, и это передалось всем по цепочке. Это было еще до войны в 1939 или 1940 году.
В одно из посещений с мамой дедушки и бабушки, а жили они в Новочеркасске, по адресу ул. Просвещения 101 в отдельном деревянном домике, дедушка спросил, сколько мне лет. Я ответил, что уже шесть, на что он сказал мне, что я уже большой и пора мне обучаться мужскому ремеслу, взял за руку и повел в свой кабинет. Надо сказать, что кабинет считался святым местом, и вход туда был возможен только с разрешения дедушки, причем правило это касалось всех, и детей и взрослых.
Мое детское воображение было потрясено тем, что я увидел, войдя в кабинет. Посередине большой комнаты на большой деревянной колоде стояла большая наковальня. У окна стоял письменный стол, на котором лежали бумаги и книги. С левой стороны от стола вся стена была в книжных стеллажах, заполненных книгами, с правой стороны вдоль стены были тоже стеллажи, специально приспособленные для инструментов и все уставленные различными молотками, клещами, щипцами, кусачками, напильниками, стамесками, ножовками, лобзиками и т.д. и т.п. У стены, примыкавшей к входной двери, была большая печь с горном для накаливания метала и выполнения кузнечных работ.
Войдя в кабинет, дедушка ознакомил меня с мастеровой частью кабинета и сказал, что мне пора учиться кузнечному делу и первым шагом на этом поприще является изготовление гвоздя. Он взял, отрубил зубилом на наковальне кусок проволоки и наглядно показал мне, как с помощью плоскогубцев, молотка и наковальни из этого куска проволоки делается гвоздь. У него так быстро и ловко был изготовлен этот гвоздь, что, я подумал, и мне это не составит большого труда. Однако, взявшись за дело, я убедился, что это не так просто, как показалось, глядя на умелые действия дедушки.
Дедушка, чтобы не смущать меня, вышел из кабинета и предоставил мне самому решать все возникающие проблемы. Через некоторое время, несмотря на разбитые пальцы и ногти, у меня получилось какое-то подобие гвоздя, и я радостный вбежал в комнату и показал дедушке, он посмотрел, сказал, что на первый раз получилось неплохо, и чтобы я приходил к нему для приобретения дальнейших мужских навыков. Так, благодаря дедушке, я стал постигать мужские премудрости, за что ему я бесконечно благодарен.
П.А. Витте, находясь в Читинской тюрьме, как и все заключенные, выполнял все работы. Там произошел такой случай. Заключенных утром, после завтрака построили на тюремной площади для формирования различных рабочих бригад. Служащий тюрьмы, стоя перед строем заключенных, стал отбирать нужных им мастеровых, для чего подавал команды. Кто владеет плотницким мастерством шаг вперед, кто столярным, слесарным и т.д. Дедушка, владея всеми этими профессиями, соответственно делая шаги, подтверждал это. Надзиратель был настолько удивлен, что, оторопело смотря, сказал, какой же ты плотник, столяр, кузнец и каменщик, если ты барон. На что дедушка ответил, барон, ни барон, а если не веришь, то проверь в работе. Проверка убедила тюремных надзирателей, что действительно барон мастер на все руки, и не просто мастер, а мастер высокого разряда».
За свою долгую историю Лайский Док породнился со всем Усть-Двиньем В кают-компанию «Корабельной стороны» Зинаиду Петровну Сальникову мы пригласили не случайно. На этой неделе коллектив одного из старейших в Архангельской области предприятий - Лайского судоремонтного завода - отметит свое 95-летие, а Зинаида Петровна возглавляет работу по организации на предприятии небольшого музея. К тому же она родилась в поселке и проработала на заводе с первого своего трудового дня и по нынешний. -Зинаида Петровна, не по общественному поручению, а, как говорится, сам Бог велел именно вам рассказывать о людях Лайского Дока. А первый-то мой вопрос будет о вашей семье, об отце - Шишкине Петре Петровиче. Он ведь человек известный, один из первых электросварщиков в судоремонте в нашей области. - Вообще-то наша семья не местных корней, отец до войны жил в Кировской области. Его отец, мой дед, - из крестьян, из тех, кого называли середняками. Семья его попала под репрессии в самом начале тридцатых, когда шло массовое раскулачивание. И хотя отец в ту пору уже уехал в Архангельск, поступил на «Красную кузницу» подсобным рабочим и учился на электросварщика, его отдали под суд «за сокрытие социального происхождения», там приговорили к 5 годам, их он отбывал в Плесецком районе. После досрочного освобождения отец вернулся на «Красную кузницу».Похожая судьба и у мамы - она окончила курсы поваров при Северном пароходстве, ходила на судах, но вскоре «органы вычислили», что ее дядя держал лавку в деревне, и заграничную визу ей закрыли. Мои родители поженились в 1936-м.Отца, как редкого специалиста, часто командировали из Соломбалы в Лайский док. В конце концов он переехал сюда с семьей, здесь и остался на всю жизнь. Специалистом он был действительно редким, ведь на то время электросварку только-только начинали осваивать. Кстати, во время войны его звали работать на молотовский завод № 402, но он отказался. На пенсию отец ушел в 1961-м, будучи начальником корпусно-сварочного цеха.У отца была трудная работа, но он ее никогда не чурался. На завод приходил к семи утра, чтоб всё до начала смены обойти, осмотреть. С детства помню, как возвращался домой усталый, ложился прямо на пол. Полежит немного, отдохнет, и уж пора вставать, идти на огород, или же по хозяйству работа ждала. Без подсобного хозяйства в нашем поселке не проживешь.Но судьба нашей семьи в сравнении с историями других династий Лайского дока выглядит очень скромно. У семейств Телегиных, Семановых, Костиных, Дубровиных, Пустошных да и целого ряда других корни уходят очень глубоко. Там по три, а то и по четыре «колена» имеется. К тому же судьбы многих людей из разных династий за эти долгие годы много раз переплетались по жизни. Лишний раз убеждаешься в этом, когда работаешь с материалами для будущего музея. - Наверняка основной костяк коллектива, да и основное население поселка, составили местные жители. - Иначе не могло и быть. В самом начале прошлого века, когда еще только начинали рыть котлован будущего дока, людей набирали в ближайших деревнях и селах, например в Конецдворье, Шихарихе, Глинниках, Свинце, Рикасихе. Многие затем оставались жить «при заводе», и потому сегодня Лайский док связан родственными узами со всем Усть-Двиньем. Порой случается, что «родство» очень неожиданным образом обнаруживается. Вот и у Василия Николаевича Бойко, нашего директора, хотя сам он из Белоруссии, по линии его супруги есть дальние родственники из династии Скачковых, знаменитых корабельных плотников и столяров из деревни Прилук. - Фамилия корабельных плотников Скачковых мне известна, они участники строительства экспедиционного судна «Персей». Кстати, немногие знают, что своим появлением этот первенец советского научно-исследовательского флота обязан именно корабелам Лайского дока. Какие-то новые «следы» в истории с «Персеем» вам удалось отыскать? - Нет. С 1923 года, когда у нас «Персей» строился, прошло много времени, и, к сожалению, из поколения начала двадцатых в поселке уже никого не осталось, а потомки их, так уж случилось, разъехались по стране. Вообще, таких старожилов, которые бы застали довоенные события, в поселке, пожалуй, нет. В почтенном возрасте Августа Федоровна Кулак, она работала бухгалтером на заводе. Или вот Мария Никитична Дубровина, которая руководила профсоюзной организацией во время войны. Обе эти женщины, кстати, были первыми комсомолками в нашем коллективе. Из тружениц военных лет можно назвать еще Анфису Александровну Шелыгину, Ульяну Ивановну Кириллову, Лидию Андреевну Гмызину. Мужчин их поколения осталось меньше: Александр Васильевич Бугаев, Антон Сергеевич Боровиков, Герман Константинович Панфилов... Что тут скажешь, время берет свое, люди уходят. - А еще глубже докопаться не пытались, по документам? Я имею в виду то, что было в окрестностях Лайского дока до 1907 года? - Ничего не было, а точнее сказать - «бесплодная торфяная тундра», как характеризуется этот участок казенной земли в документе 1898 года. Вот его и выхлопотал в аренду для нужд Архангельской конторы товарищества Архангельско-Мурманского срочного пароходства Петр Иванович Витт. Поначалу он замышлял устроить здесь зимовку судов Товарищества. Участок двинского берега в 40 тысяч квадратных саженей ему отдали на срок до 1915 года, а вскоре возникла идея построить здесь же эллинг для ремонта и док для осмотра подводной части судов. При этом Витту потребовались настойчивые усилия, чтобы убедить в экономической целесообразности нового предприятия и губернскую власть, и самого царя. Царь же 2 апреля 1899 года наконец «соизволил» передать в бесплатное пользование под устройство эллинга и дока участок земли сроком на 99 лет. Причем было оговорено, что по истечении этого времени все постройки и сооружения, возведенные здесь, будут переданы в казну, то есть государству, безо всякого вознаграждения за них Товариществу... - Не всякий рискнул бы начать дело на таких кабальных условиях, а Витт решился. Что это был за человек? - О нем известно немного: архангельский предприниматель, имевший собственный лесопильный завод в устье речки Шоля - это приток Лаи, один из руководителей Товарищества. Судя по всему, очень деятельный человек, в поисках подходящего места для будущего дока он лично изучил береговую линию в устье Северной Двины и остановил свой выбор на Лае. Он же и руководил его строительством. По тем временам это было крупное гидротехническое сооружение. К сожалению, это все, что нам известно о Витте. - Любопытно, сколько всего директоров было в Лайском доке за эти 95 лет? - Точно могу сказать - двенадцать. Первый из них - Петр Иванович Витт, о котором мы говорили, хотя правильно его должность называлась - директор-распорядитель. Дольше всего, двадцать два года, руководил предприятием Дмитрий Ильич Кокоянин, с 1935 по 1957 год. - Эта фамилия тоже на слуху, в определенном смысле легендарная личность... - Дмитрию Ильичу досталось, быть может, самое трудное время. Я имею в виду войну и последующий восстановительный период. В войну, к слову, на смену мужчинам, которые ушли на фронт, пришли женщины и подростки. Причем женщинам пришлось осваивать новые для себя профессии. Например, Л. В. Иванова стала кочегаром, а К. П. Баженова котельщиком. При заводе пришлось открыть ясли и детский садик, чтобы дать возможность женщинам уйти на производство. Всего же «промышленных рабочих, мужчин, женщин и подростков», как сказано в пояснительной записке директора Кокоянина к годовому отчету, на предприятии числилось 96 человек. И вот с таким коллективом док безостановочно выполнял ремонт судов и военных кораблей. Кстати, многие корабли приходили к нам из Молотовска, когда на заводе № 402 имелись проблемы с докованием.Ну а в памяти многих Дмитрий Ильич Кокоянин остался как толковый и доступный руководитель, очень простой человек. Род его из вологодских крестьян. Мне однажды отец рассказывал, как зимой они «ездили» с Кокояниным в Архангельск на совещания. Запрягут лошадку и едут по реке, а снег глубокий, Кокоянину по-крестьянски лошадь жалко, они вылезут из саней и дальше до самого города пешком идут, а лошадка с санями следом плетется... - Зинаида Петровна, четыре года назад я познакомился с краеведческим исследованием вашего коллеги Юрия Васильевича Быкова, как раз по истории Лайского дока. Это интересная, серьезная работа, и, к слову, единственная в своем роде. К сожалению, с Юрием Васильевичем мы не были знакомы, расскажите о нем. - Он пришел к нам, окончив отделение судоремонта Архангельского морского техникума, еще в пятидесятые, работал начальником технического отдела, а вот идеей написать историю предприятия загорелся уже в достаточно зрелом возрасте. Над рукописью он работал несколько лет, поднимал архивы здесь и в Архангельске. Последние годы сильно болел, но начатое дело не бросал. Вообще, Юрий Васильевич был активным общественником, и в свое время организовывал в коллективе спортивные секции. Благодаря ему у нас регулярно проводились соревнования, даже была своя команда по гребле на шлюпках. - Многим на зависть ваш небольшой коллектив действительно был известен своими спортивными достижениями. Помнится, в свое время меня поразил тот факт, что в Лайском доке имелась своя команда по... хоккею с шайбой, это когда не каждый крупный завод мог позволить себе такое. - Знаете, хоккейная команда у нас и сейчас есть, правда, выступает она уже не от завода, а от Приморского района. Хоккейная коробка, как и прежде, действует, и с детьми здесь работает штатный тренер, а дети, скажу вам, не только из Лайского Дока, но приезжают заниматься из других поселков. Тут с благодарностью надо сказать о Льве Третьякове, который работал на заводе прорабом и на общественных началах начинал строить наш стадион, создавать местную команду, о которой вы вспомнили...Вообще, я то время часто вспоминаю, и вспоминаю как лучшие годы. Люди в поселке жили будто одной и дружной семьей, ничего не делили, были терпимее, добрее относились друг к другу. После работы - все в клуб, там отдыхали, была художественная самодеятельность, на «Голубые огоньки» собирался весь поселок. Возможно, кому-то и покажется смешным, но мужики так говорили: трешник все равно без пользы пропьем, так лучше уж сходить в клуб. А какая у нас дружная комсомольская организация была! На субботники выходили все, никого не призывали, не подгоняли, хотя ведь у многих из нас уже были дети, у меня самой двое. Или вот - идет комсомольское собрание, в одной комнате - мы, а в соседней - наши дети, с ними по поручению собрания занимается кто-нибудь из взрослых. Мне кажется, наша молодость прошла интереснее, чем у наших детей. Сейчас у них одни проблемы: где найти работу? как заработать? А ведь что-то должно быть и для души... - Зинаида Петровна, меня заинтересовал докмейстерский журнал вашего завода. Я изучал его, очень интересный документ. Период, о котором вы вспоминали, действительно являлся «золотым временем» для вашего завода: от ледохода до ледостава корабли и суда становились в док один за другим. - Действительно, такой документ может о многом рассказать, и о том, как развивалось предприятие, в частности... В первую навигацию на Лае было «отдоковано» 11 судов, во вторую - 27, дальше - больше, а в пятидесятые годы и в начале шестидесятых к нам уже приходило по 60 судов за навигацию, у причалов завода «зимовало» по 19 кораблей. Мы ведь не только ремонтировали суда и плавсредства, у нас они проходили обязательные плановые освидетельствования Регистра. Поэтому, пока был в Архангельске и его окрестностях многочисленный флот, без работы мы не оставались. Сегодня же, как и многие предприятия отрасли, коллектив наш в новых экономических условиях борется «за свое место под солнцем». - Если верить докмейстерскому журналу, экспедиционное судно «Алексей Марышев», которое первым вошло в Лайский док в эту навигацию, в обобщенном списке за 95 лет стало 3676-м. До «круглого юбилея», конечно, далеко, но все же я пожелаю, чтобы цифры 4000 ваш коллектив достиг как можно скорее. Иными словами, чтобы док никогда не пустовал и у людей всегда была бы работа. - Спасибо.