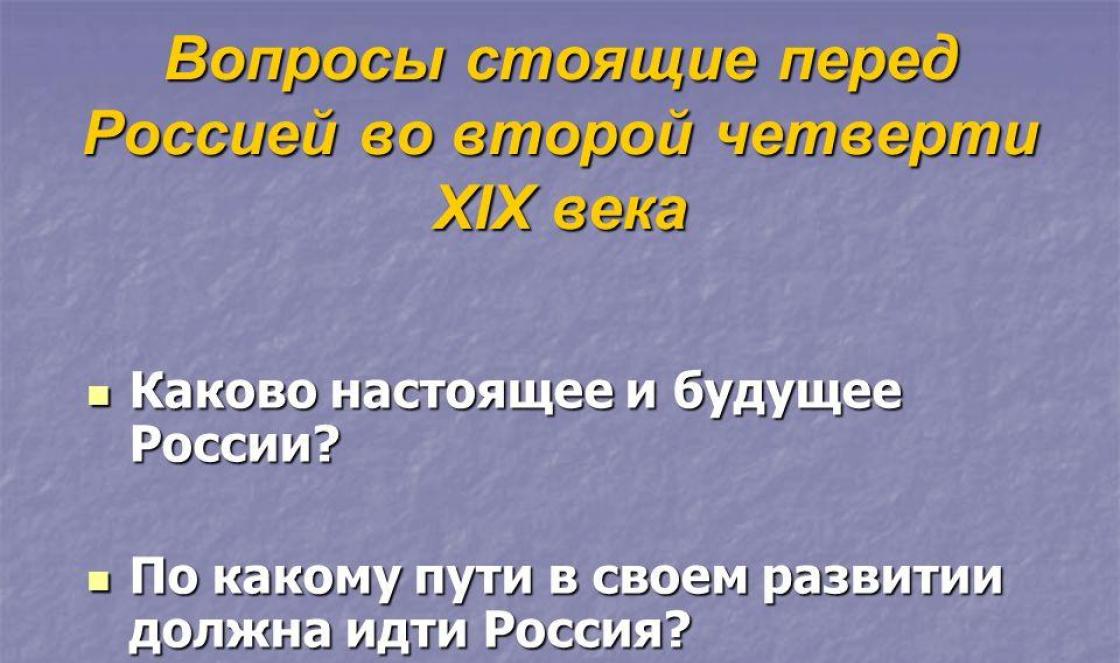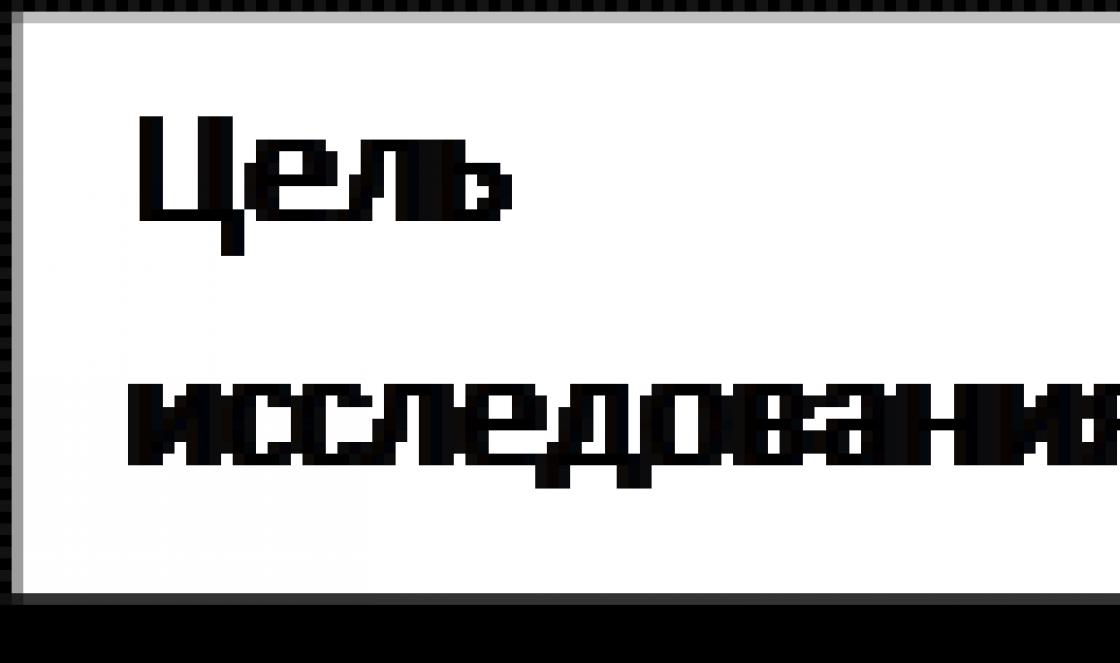Рой Медведев
Ближний круг Сталина
ПРЕДИСЛОВИЕ
В этой книге излагаются семь кратких биографий, семь политических портретов людей, входивших в разное время в ближайшее окружение Сталина: Молотова, Кагановича, Микояна, Ворошилова, Маленкова, Суслова и Калинина.
Могут спросить – почему из множества людей, в разное время стоявших в непосредственной близости к Сталину и обладавших большой властью, я избрал приведенные выше семь имен? Почему я не рисую портреты Р. К. Орджоникидзе, С. М. Кирова, А. С. Енукидзе и других, кто при всех своих недостатках составлял лучшую часть ближайшего окружения Сталина в конце 20-х и первой половине 30-х годов? Почему я, с другой стороны, не привожу в своей книге политических биографий таких людей, как Н. И. Ежов, Л. П. Берия, Р. Г. Ягода, А. Н. Поскребышев, Л. З. Мехлис, А. Я. Вышинский и других, составлявших худшую часть помощников и приближенных Сталина?
Мой ответ прост. Все перечисленные выше люди, портреты которых отсутствуют в нашем очерке, погибли или умерли еще при жизни Сталина или ненадолго его пережили. Я же хотел проследить политическую и личную судьбу тех, кто вступил в партию и начал свою политическую карьеру еще при жизни Ленина, успешно продолжал ее при Сталине, но пережил страшную сталинскую эпоху и был активным политическим деятелем во времена Хрущева. Некоторые из этих людей еще жили во времена Брежнева, а кое-кто из них даже пережил Брежнева, Андропова и Черненко. Все они играли важную роль в нашей истории. Двое в разное время возглавляли Советское правительство (Молотов и Маленков). Двое в разное время возглавляли Президиум Верховного Совета СССР (Ворошилов и Микоян). Трое занимали в разное время второе место в партийной иерархии (Каганович, Маленков и Суслов). Все они десятилетиями заседали в Политбюро, в Совете Министров СССР, и их решения прямо или косвенно отражались на судьбах миллионов людей. Но и в их собственной судьбе отразилась история, отразились различные эпохи, пережитые нашей страной. На таких именно людей опирался Сталин, они были ему необходимы для установления тоталитарной диктатуры, но и он был им необходим, чтобы сохранить свою долю влияния и власти. Это делает их типичными представителями сталинской системы.
Никто из изображенных в этой книге людей не может быть назван, в сущности, выдающимся политическим деятелем, хотя на подмостках исторической сцены им и доводилось играть важные роли. Но не они были режиссерами или авторами сценария. Молотов не был дипломатом – я хотел сказать: настоящим дипломатом, – хотя и занимал долгие годы пост министра иностранных дел. Ворошилов не был настоящим полководцем, хотя и командовал армиями, фронтами и даже группами фронтов. Суслов не был настоящим теоретиком или идеологом марксизма, хотя и занимал должность «главного идеолога» партии. Маленков был многоопытен в аппаратных интригах, но малоопытен в настоящей государственной деятельности. Каганович сменил множество самых высоких должностей, но так и не научился грамотно писать – даже простое письмо или записку. Несколько выше других по интеллекту можно поставить только Микояна. Однако и он был лишь полуинтеллигентом, лучше других знавшим тот предел, выход за который означал для него смерть.
Ко всему прочему это была очень недружная команда, все они враждовали между собой. Но Сталин и не хотел иметь около себя дружной команды. Он ценил другое, чем обладали люди из его ближайшего окружения. Почти все, о ком мы будем здесь говорить, были не только сами старательными и энергичными работниками, но и умели заставить работать своих подчиненных, используя главным образом методы запугивания и принуждения. Они часто спорили друг с другом, и Сталин поощрял эти споры, но только следуя принципу «разделяй и властвуй». Он допускал некоторый «плюрализм» в своем окружении и извлекал выгоду из взаимных споров и вражды среди членов Политбюро, так как это позволяло ему нередко лучше формулировать свои собственные предложения и идеи. Поэтому на обсуждениях в Политбюро или Секретариате ЦК партии Сталин обычно выступал последним. Его ближайшие помощники научились только поддакивать ему и могли выполнить любой, даже самый преступный приказ вождя. Того, кто не был способен на преступления, не только отстраняли от власти, но и физически уничтожали. Это был особый отбор, и перечисленные нами семь человек прошли его успешнее других. Эти люди ступили на путь перерождения в то время, когда революционная твердость превращалась в жестокость и даже садизм, политическая гибкость – в беспринципность, энтузиазм – в демагогию.
Все эти люди были развращены Сталиным и условиями своей эпохи. Но развратила их не только та громадная власть, которой они обладали сами и от которой уже не могли отказаться, но и неограниченная власть вождя, в чьем подчинении они оказались и кто мог в любое время уничтожить каждого из них. Не только честолюбие, тщеславие, но и страх вели их от преступления к преступлению. Никто из людей, изображенных в книге, не родился преступником или злодеем. Однако условия, в которые их поставил сталинский режим, не снимают ответственности с этих ближайших помощников Сталина.
Отбор людей для управления страной зависел не от одной лишь прихоти или каприза Сталина. Эти люди старались отличиться перед ним и предоставить тот «товар», который был ему так нужен. Но это был особый «спорт» или соревнование, ибо этим людям надо было идти по трупам других людей – и не только действительных врагов партии и революции, но и тех, кого они лживо представляли врагами.
Во многом люди из окружения Сталина были схожи. Но во многом они были различны. Одни из них могли выполнить любой, самый несправедливый и бесчеловечный приказ, сознавая его жестокость и «не испытывая от этого удовольствия». Другие постепенно втягивались в преступления и превращались в садистов, которые получали удовлетворение от своих чудовищных оргий и издевательств над людьми. Третьи превращались в фанатиков и догматиков, заставляя себя искренне поверить, что все то, что они делают, необходимо для партии, революции или даже для «счастливого будущего». Но каковы бы ни были типы, формы и мотивы поведения людей из окружения Сталина, в любом случае речь здесь о тех, кем ни наша страна, ни Коммунистическая партия, ни человечество не могут гордиться.
И все же их судьба поучительна и представляет поэтому немалый интерес для историка, который не может выбирать своих персонажей только из чувства симпатии или антипатии. К тому же из истории необходимо извлечь и некоторые уроки, главный из которых состоит, конечно же, в том, что в Советском Союзе должны быть наконец созданы такие демократические механизмы, при которых люди, подобные Сталину и большинству деятелей из его окружения, уже никогда не могли бы оказаться у власти.
Составлять биографию даже самых известных политических деятелей в нашей стране дело нелегкое, ибо наиболее важные стороны их деятельности сохраняются в глубокой тайне. Они хотели известности и славы, они поощряли свой «малый» культ личности, но не желали, чтобы публика знала настоящие факты их политической биографии и личной жизни. Они делали политику в кабинетах за многими дверьми, они отдыхали за высокими заборами государственных особняков, они старались оставлять как можно меньше документов, по которым историку легче было бы реконструировать прошлое. Поэтому я заранее прошу извинения у читателей за возможные неточности и заранее благодарю за любые замечания и дополнения. Я особенно признателен тем, кто помог мне на самых ранних стадиях этой работы, материалы к которой мне пришлось собирать немало лет.
Первое издание этой книги вышло в свет в 1983 году в Англии, затем она была переведена на
Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры Хлевнюк Олег Витальевич
Старые и новые соратники Сталина
Хотя историки вряд ли сумеют проникнуть в мрачные глубины расчетов и настроений Сталина, определявшего судьбу своих соратников, некоторые мотивы сталинских действий кажутся достаточно очевидными. В целом можно утверждать, что Сталин дал санкцию на уничтожение самых «виноватых», «бесполезных» и «незащищенных» с его точки зрения членов Политбюро. К рассмотрению этих трех взаимосвязанных формул «обвинения», определявших судьбу сталинского окружения в годы террора, мы сейчас и переходим.
Главной «виной» любого функционера, не говоря уже о членах Политбюро, по мнению Сталина, были неразборчивые контакты с бывшими оппозиционерами и другими «подозрительными элементами». На этом погорел прежде всего Постышев, окруженный «врагами» в Киеве, и пытавшийся на начальном этапе даже защищать их от нападок (неважно, что защищал он их не в силу политических убеждений, а как патрон защищает своих клиентов, предотвращая ослабление собственных позиций). Большие подозрения испытывал Сталин к политической лояльности и связям Рудзутака. Репутация Косиора и Чубаря в глазах Сталина была существенно подорвана в период голода 1932–1933 годов. Попытки этих руководителей маневрировать и хоть как-то обеспечить интересы республики вызывали у Сталина приступы крайнего раздражения. В 1932 году он даже планировал убрать Косиора и Чубаря с Украины, хотя, поразмыслив, ограничился тем, что в 1933 году послал в эту республику своего комиссара Постышева. Как свидетельствуют воспоминания Молотова и Кагановича, у Чубаря была репутация деятеля, имевшего хорошие отношения с «правыми» (в частности, с Рыковым) и склонного к «правизне».
Подозрения в недостаточной политической лояльности нередко совмещались у Сталина с низкой оценкой деловых качеств того или иного функционера и обвинениями в нежелании напряженно работать. Хотя клеймо «бесполезности» само по себе, и без политических обвинений, могло быть достаточным основанием для уничтожения. Советская административная система, неповоротливая и неэффективная по своей сути, постоянно требовала сверхусилий от руководителей аппарата. Поэтому Сталин стремился окружать себя прежде всего энергичными трудоголиками, так называемыми «организаторами». Соответственно, Сталин старался избавиться от тех деятелей, которые либо фактически отошли от дел в силу прогрессировавших болезней, либо оценивались как недостаточно энергичные и бесперспективные.
Можно обратить внимание, например, на то, что в дополнение к своей реальной или вымышленной политической «правизне» Чубарь был не слишком крепок физически и по специальным решениям Политбюро проводил много времени на лечении за границей. Тяжелыми болезнями, резко обострившимися незадолго до ареста, страдал Эйхе. Уже за несколько лет до своего ареста фактически прекратил активную деятельность Рудзутак. Он часто болел и по представлению врачей постоянно получал от Политбюро длительные отпуска. Так, 11 июня 1936 года. Политбюро приняло решение направить Рудзутака с провожатым в Париж для лечения с последующим отдыхом на трехмесячный срок. Для этого была выделена огромная сумма - 4 тыс. долларов. Мнение о «бесполезности» Рудзутака было настолько устойчивым, что его в 1970-1980-е годы подробно воспроизвел Молотов: «Он до определенного времени был неплохой товарищ […] Неплохо вел себя на каторге и этим, так сказать, поддерживал свой авторитет. Но к концу жизни - у меня такое впечатление сложилось, когда он был у меня уже замом, он немного уже занимался самоублаготворением. Настоящей борьбы, как революционер, уже не вел. А в этот период это имело большое значение. Склонен был к отдыху. Особой такой активностью и углублением в работе не отличался […] Он так в сторонке был, в сторонке. Со своими людьми, которые тоже любят отдыхать. И ничего не давал такого нового, что могло помогать партии. Понимали, был на каторге, хочет отдохнуть, не придирались к нему, ну, отдыхай, пожалуйста. Обывательщиной такой увлекался - посидеть, закусить с приятелями, побыть в компании - неплохой компаньон. Но все это можно до поры до времени […] Трудно сказать, на чем он погорел, но я думаю, на том, что вот компания у него была такая, где беспартийные концы были, бог знает какие. Чекисты, видимо, все это наблюдали и докладывали […]».
Эти объяснения Молотова перекликаются с некоторыми официальными оценками конца 1930-х годов. В разгар репрессий, 3 февраля 1938 г., Политбюро утвердило, например, совместное постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР, ограничивающее размеры дач ответственных работников «ввиду того, что […] ряд арестованных заговорщиков (Рудзутак, Розенгольц, Антипов, Межлаук, Карахан, Ягода и др.) понастроили себе грандиозные дачи-дворцы в 15–20 и больше комнат, где они роскошествовали и тратили народные деньги, демонстрируя этим свое полное бытовое разложение и перерождение».
Нетрудно, однако, заметить, что такие формулы объяснения репрессий в Политбюро, как «виновность» и «бесполезность», не являются универсальными. Учитывая размах арестов в советской «номенклатуре», «виновными» могли быть объявлены все члены Политбюро, неизбежно контактировавшие с «врагами». Что касается «бесполезности», то свой пост, например, сохранил полуослепший и фактически отстраненный от управления М. И. Калинин. Все это позволяет утверждать, что при равных условиях «виновности» и «полезности» разные члены Политбюро обладали разной степенью «защищенности». Оставляя в стороне психологические привязанности самого Сталина, можно утверждать, что эта «защищенность» имела существенные институциональные и политические основания.
Сталинские соратники, по крайней мере, наиболее известные и «заслуженные» среди них, были носителями (символами) революционной легитимности власти, связи сталинской диктатуры с ленинским периодом, а также коллективной ответственности за политику «большого скачка». Эти люди долгие годы слишком близко стояли к Сталину, чтобы обвинения в их адрес неизбежно не бросили бы тень на политическую репутацию самого вождя. Кроме того, выполняя важнейшие функции в партийно-государственном аппарате, высшие советские руководители обладали реальными рычагами если не политического, то административного влияния, были важным элементом системы управления. Сталин не мог абсолютно игнорировать эти обстоятельства. В отношении Политбюро он действовал куда более осмотрительно, чем в отношении других властных структур. Репрессиям подверглись члены Политбюро, так сказать, «второго эшелона». Но они уничтожались за завесой секретности: ни один не был осужден на открытом политическом процессе, а некоторые не прошли даже формальную процедуру исключения из Политбюро на пленуме ЦК.
Означало ли все это, что уцелевшие члены Политбюро были способны сколько-нибудь существенно ограничивать власть Сталина? Многолетние поиски в архивах не выявили фактов, подтверждающих экзотическое мнение об относительном ослаблении власти Сталина к исходу «большого террора». И наоборот, все известные сегодня документы укрепили традиционную точку зрения, что террор завершил оформление сталинской диктаторской власти и окончательно похоронил все прежние традиции «коллективного руководства».
Сохраняя костяк старого Политбюро, Сталин сделал все необходимое для того, чтобы полностью подчинить себе соратников, запугать их и лишить малейшей доли политической самостоятельности. Основным методом достижения этой цели были репрессии против родственников и ближайших сотрудников старых членов Политбюро. Возможности выбора жертв из окружения соратников у Сталина были неограниченными. В огромном потоке доносов и оговоров на допросах в НКВД всплывали самые разные имена, о чем Ежов регулярно докладывал Сталину. От воли последнего зависело дать или не дать ход разработке очередного подозреваемого.
Чтобы предотвратить нежелательные конфликты в связи с такими арестами, Сталин целенаправленно внедрял в Политбюро своеобразную идеологию «приоритета долга над личными привязанностями» и жестко отвергал попытки членов Политбюро вмешиваться в дела НКВД. Показательной в этом отношении была реакция Сталина на переговоры между Ежовым и С. В. Косиором по поводу судьбы родного брага Косиора, Владимира. В. В. Косиор, будучи сторонником Троцкого, вместе с женой находился в ссылке в Минусинске. В начале 1936 года жена Владимира Косиора, обвиненная в причастности к «контрреволюционной организации», попала в тюрьму. Владимир прислал брату, члену Политбюро, гневное письмо, в котором требовал вмешательства и освобождения жены. В противном случае он грозил покончить жизнь самоубийством. С. В. Косиор дрогнул. 3 мая 1936 года он обратился с просьбой к Ежову: «Посылаю тебе письмо моего брата Владимира - троцкиста, очевидно, он не врет, во всяком случае, ясно, что он дошел до отчаяния. На мой взгляд, надо бы привести это дело в порядок. Если он пишет мне, то значит дошел до последней точки. Вмешайся ты, пожалуйста, в это дело и реши сам, как быть».
Получив это аккуратное, без прямых просьб, письмо, Ежов решил не игнорировать просьбу члена Политбюро и затребовал из НКВД дело В. Косиора. Однако одновременно, как обычно, согласовал свои действия со Сталиным. Сталин, получив запрос Ежова, ответил резким отказом. «По всему видно, - писал он, - что Вл. Косиор - чуждый рабочему классу субъект, враг советской власти и шантажист. Мерилом всего - партии, рабочего класса, власти, законности - является для него судьба его жены и только она. Видно, Вл. Косиор порядочный мещанин и пошляк, а жена его “попалась” основательно, иначе он не пытался бы шантажировать его брата в самоубийстве. Поразительно, что Ст. Косиор находит возможным вмешиваться в это шантажистское дело». Не исключено, что к подобной бессовестной демагогии о партии, рабочем классе, власти, законности прибегал Сталин и в разговорах с Орджоникидзе. Отказ освободить старшего брата Серго Орджоникидзе Папулию был важным сигналом для членов Политбюро. Как показали последующие события, они смирились с бесполезностью каких-либо обращений к Сталину по поводу судьбы близких им людей.
В сходной ситуации с Орджоникидзе с конца 1936 г. оказался Л. М. Каганович. Сначала были проведены массовые аресты среди ближайших сотрудников и заместителей Кагановича по Наркомату путей сообщения. Затем, как рассказывал в 1980-е годы сам Каганович, он был подвергнут Сталиным допросу по поводу дружбы с одним из главных «военных заговорщиков» - Якиром. Каганович узнал тогда, что некоторые арестованные военные дали показания о его причастности к их «контрреволюционной организации». Дело, однако, этим не ограничилось. Перед войной покончил самоубийством старший брат Кагановича М. М. Каганович, снятый с поста наркома авиационной промышленности и обвиненный в «контрреволюционной деятельности».
Особую проблему для Сталина представляли взаимоотношения с Молотовым. Молотов был его ближайшим соратником, с которым в течение почти двух десятилетий решались самые важные и секретные дела. В стране и партии Молотов воспринимался как первый человек в окружении Сталина, как его неофициальный наследник. Даже после того, как значение Политбюро было сведено к минимуму, Молотов оставался главным советником Сталина. «Ближе всего к Сталину, в смысле принимаемых по тому или другому вопросу решений, стоял Молотов», - так изложил Хрущев свои представления о ситуации в предвоенном Политбюро. Это утверждение подкрепляется многочисленными фактами. Именно с Молотовым Сталин перед войной решал все принципиальные, прежде всего внешнеполитические проблемы.
Однако всецело преданный Сталину, Молотов в отношениях с ним временами позволял себе упрямство и несговорчивость, особенно заметные на фоне подобострастия других членов Политбюро. «Он производил на меня в те времена впечатление человека независимого, самостоятельно рассуждающего, имел свои суждения по тому или иному вопросу, высказывался и говорил Сталину, что думает. Было видно, что Сталину это не нравилось, но Молотов все-таки настаивал на своем. Это, я бы сказал, было исключением. Мы понимали причины независимого положения Молотова. Он был старейшим приятелем Сталина», - писал Хрущев. Аналогичное впечатление о взаимоотношениях Сталина и Молотова сохранилось у Г. К. Жукова. «Участвуя много раз при обсуждении ряда вопросов у Сталина в присутствии его ближайшего окружения, - рассказывал он много лет спустя писателю К. М. Симонову, - я имел возможность видеть споры и препирательства, видеть упорство, проявляемое в некоторых вопросах, в особенности Молотовым; порой дело доходило до того, что Сталин повышал голос и даже выходил из себя, а Молотов, улыбаясь, вставал из-за стола и оставался при своей точке зрения».
Несомненно, тяготясь подобными отношениями, Сталин предпринимал все необходимое, чтобы поставить Молотова на место. Один за другим были уничтожены секретари и помощники Молотова (например, 17 августа 1937 года Политбюро сняло с работы заведующего секретариатом Молотова А. М. Могильного, а 28 августа - помощника Молотова М. Р. Хлусера). В 1939 году была проведена атака против жены Молотова П. С. Жемчужиной, занимавшей пост наркома рыбной промышленности. 10 августа 1939 года Политбюро приняло секретное постановление (под грифом «особая папка»), в котором говорилось, что Жемчужина «проявила неосмотрительность и неразборчивость в отношении своих связей, в силу чего в окружении тов. Жемчужины оказалось немало враждебных шпионских элементов, чем невольно облегчалась их шпионская работа». Политбюро поручило «произвести тщательную проверку всех материалов, касающихся т. Жемчужины» и предрешило ее освобождение от поста наркома, проводя «эту меру в порядке постепенности».
Над Жемчужиной сгущались тучи. В последующие недели в НКВД были получены показания о ее причастности к «вредительской и шпионской работе». Теперь все зависело от того, захочет ли Сталин дать ход этим показаниям. По каким-то причинам Сталин на этот раз решил не доводить дело до ареста. 24 октября для рассмотрения вопроса о Жемчужиной было собрано Политбюро (присутствовали все члены и кандидаты Политбюро, за исключением Хрущева). Скорее всего, по инициативе Сталина (во всяком случае, именно его рукой написано соответствующее постановление Политбюро) Жемчужину частично оправдали. В принятом решении (на этот раз оно не проходило под грифом «особая папка», а предназначалось для более широкого распространения) обвинения против Жемчужиной были названы «клеветническими». Однако в постановлении повторялась формулировка о «неосмотрительности и неразборчивости» Жемчужиной, данная в постановлении от 10 августа. На основании этого было принято решение об освобождении Жемчужиной от должности наркома рыбной промышленности. В феврале 1941 года на XVIII конференции ВКП(б) Жемчужина была лишена звания кандидата в члены ЦК. Позже, после войны, Жемчужина все-таки будет арестована и проведет несколько лет в ссылке.
Документы свидетельствуют о том, что в конце 30-х годов Сталин оказывал на Молотова более заметное давление и по служебной линии, неоднократно делая ему выговоры по поводу тех или иных решений Совнаркома. Например, 28 января 1937 года Молотов обратился в Политбюро с просьбой об утверждении дополнительных капитальных вложений для НКВД. Сталин откликнулся на это резкой резолюцией: «т. Молотову. Почему нельзя было предусмотреть это дело при рассмотрении титульных списков? Прозевали? Надо обсудить в ПБ». Уже на следующий день предложение Совнаркома было принято, и это также свидетельствует о том, что раздражение Сталина было вызвано, скорее всего, не деловыми причинами.
17 октября 1937 года Молотов обратился в Политбюро с просьбой об утверждении дополнительных капиталовложений для двух предприятий химической промышленности. Сталин поставил на письме резолюцию: «т. Чубарю. Кем составлена эта записка? Кто проверял цифры? Трудно голосовать за предложение т. Молотова». Подобное обращение Сталина к Чубарю через голову Молотова (который, судя по протоколам Политбюро, находился в это время в Москве) представляло собой демонстративное нарушение существующей субординации, выпад против Молотова. Чубарь, заместитель председателя СНК и нарком финансов, был подчиненным Молотова, и то, что письмо в Политбюро было подписано Молотовым, означало, что на уровне Совнаркома вопрос согласован. Несмотря на это очевидное обстоятельство, Сталин вновь повторил свой маневр через несколько дней. 20 октября 1937 года Молотов обратился в Политбюро с просьбой утвердить выделение из резервного фонда СНК 40 млн руб. на пополнение оборотных средств торгов системы Наркомата внутренней торговли, а Сталин вновь поставил на письме резолюцию: «А как думает на этот счет т. Чубарь?». И в том, и в другом случае решение в конце концов было принято. Это означало, что Сталин не выступал против самих постановлений, а скорее устраивал некие политические демонстрации. Примеры сталинских атак на Молотова по поводу решений Совнаркома можно продолжать. Они не были столь резкими и политизированными, как атаки Сталина на Рыкова в 1929–1930 гг., но явно свидетельствовали о недовольстве Сталина Молотовым как председателем правительства.
В достаточно унизительное положение был поставлен Молотов во время работы XVIII съезда ВКП(б). 14 марта 1939 г. он выступил на съезде с традиционным для председателя СНК докладом об очередном (третьем) пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР. По содержанию доклад не представлял собой ничего особенного, и его основные положения были заранее согласованы и одобрены Политбюро. Однако уже на следующий день, 15 марта, Политбюро, несомненно по инициативе Сталина (на подлиннике постановления сохранилась сталинская правка), приняло постановление «О докладе т. Молотова на XVIII съезде ВКП(б) о третьей пятилетке». В нем говорилось: «1) Признать неправильным, что т. Молотов в своем докладе […] не остановился на итогах дискуссии и на анализе основных поправок и дополнений к тезисам. 2) Предложить т. Молотову исправить это положение». Выполняя это решение Политбюро, Молотов в заключительном слове 17 марта изложил основное содержание предсъездовской «дискуссии», признав при этом (естественно, без ссылок на постановление Политбюро от 15 марта), что исправляет упущение, сделанное в докладе.
В общем, ничего необычного в требовании дополнить доклад материалами предсъездовского обсуждения не было. Необычной была формула этого требования: демонстративное решение Политбюро, официальная констатация ошибки Молотова. Все это разительным образом отличалось от аналогичных ситуаций, возникавших в 1920-х гг. и в первой половине 1930-х годов. 7 ноября 1926 г., например, Сталин так писал Молотову по поводу публикации их выступлений на XV конференции: «Я теперь только понял всю неловкость того, что я не показал никому свой доклад […] Я и так чувствую себя неловко после позавчерашних споров. А теперь ты хочешь меня убить своей скромностью, вновь настаивая на просмотре речи (выступления Молотова. - О. X.). Нет уж лучше воздержусь. Печатай в том виде, в каком ты считаешь нужным». Сохранившиеся письма показывают, что, по крайней мере, вплоть до 1936 г. Сталин демонстративно одобрял качество публичных выступлений Молотова. «Сегодня я читал международную часть. Вышло хорошо», - писал он в январе 1933 г. по поводу предстоящего доклада Молотова на сессии ЦИК СССР. «Просмотрел. Вышло неплохо», - так оценил Сталин предварительный текст доклада Молотова о советской конституции в феврале 1936 г. Если у Сталина и возникали в этот период какие-либо замечания, то он высказывал их Молотову приватно. «Глава о “принудительном” труде неполна, недостаточна. Замечания и поправки смотри в тексте», - писал Сталин Молотову по поводу проекта доклада последнего на съезде Советов СССР в марте 1931 г.
Дискредитированным перед войной оказался другой старый соратник Сталина, К. Е. Ворошилов. Проведя по приказу Сталина широкомасштабную чистку в армии, Ворошилов, и без того не отличавшийся особыми способностями как руководитель военного ведомства, был полностью деморализован. «Чем дальше, тем больше он терял свое лицо. Все знали, что если вопрос попал к Ворошилову, то быть ему долгие недели в процессе подготовки, пока хоть какое-нибудь решение состоится», - вспоминал адмирал Н. Г. Кузнецов. В довершение всего на Ворошилова была возложена ответственность за поражения в ходе советско-финской войны. В мае 1940 г. он был заменен на посту наркома обороны С. К. Тимошенко. В период передачи дел новому руководителю в Наркомате обороны провела проверку комиссия, в которую входили А. А. Жданов, Г. М. Маленков и Н. А. Вознесенский. Составленный по результатам проверки акт содержал резкие оценки состояния дел в военном ведомстве. Хотя отставка Ворошилова была проведена достаточно аккуратно и внешне выглядела повышением (накануне Ворошилов был назначен заместителем председателя СНК и председателем Комитета обороны при СНК), в сталинском окружении зафиксировали факт значительного охлаждения вождя к своему давнему другу. «Сталин […) в беседах критиковал военные ведомства, Наркомат обороны, а особенно Ворошилова. Он порою все сосредотачивал на личности Ворошилова […] Помню, как один раз Сталин во время нашего пребывания на его ближней даче в пылу гнева остро критиковал Ворошилова. Он очень разнервничался, встал, набросился на Ворошилова. Тот тоже вскипел, покраснел, поднялся и в ответ на критику Сталина бросил ему обвинение: “Ты виноват в этом, ты истребил военные кадры” Сталин тоже ответил. Тогда Ворошилов схватил тарелку […] и ударил ею об стол. На моих глазах это был единственный такой случай», - вспоминал Хрущев.
В сложном положении оказались в конце 1930-х годов и другие уцелевшие от репрессий старые члены Политбюро. Все они потеряли в предвоенный период кого-либо из родственников или ближайших друзей и сотрудников (наиболее известен факт заключения в лагеря жены М. И. Калинина). Все находились под постоянной угрозой каких-либо политических обвинений. Выступая на расширенном заседании военного совета при наркоме обороны СССР 2 июня 1937 г., Сталин публично напомнил, например, что секретарь ЦК А. А. Андреев «был очень активным троцкистом в 1921 г.» (имелась в виду позиция Андреева в период дискуссии о профсоюзах на X съезде партии, когда Андреев поддержал позицию Троцкого), хотя теперь «хорошо дерется с троцкистами». По данным Р. Медведева, в 1950-е годы Микоян рассказывал, что вскоре после смерти Орджоникидзе Сталин угрожал и Микояну: «История о том, как были расстреляны 26 бакинских комиссаров и только один из них - Микоян - остался в живых, темна и запутанна. И ты, Анастас, не заставляй нас распутывать эту историю».
Известные факты подтверждают точку зрения о полной зависимости старых членов Политбюро от Сталина. Причем эта зависимость сталинского окружения, как точно заметил М. Левин, носила рабский характер: «Сталин мог сместить, арестовать и казнить любого из них, преследовать их семьи, запрещать им посещать заседания тех органов, членами которых они являлись, или просто обрушиться на них в порыве неконтролируемой ярости». Хотя подобные формулировки некоторым историкам кажутся преувеличенными, у нас есть все основания настаивать именно на них. Оставляя в стороне многие другие соображения, еще раз подчеркнем главное - Сталин действительно мог (и неоднократно делал это) в любой момент лишить не только поста, но и жизни любого из членов Политбюро.
Важной частью формирования новой системы высшей власти было выдвижение молодых лидеров, получавших свои посты и власть непосредственно из рук Сталина. В марта 1939 г. на пленуме ЦК ВКП(б), избранного XVIII съездом партии, в состав полных членов Политбюро, помимо Андреева, Ворошилова, Кагановича, Калинина, Микояна, Молотова, Сталина, были введены Жданов и Хрущев. Новыми кандидатами в члены Политбюро стали Берия и Шверник. Тенденция к разбавлению Политбюро «молодежью» еще раз проявилась два года спустя. В феврале 1941 г. кандидатами в члены Политбюро стали сразу три выдвиженца: Н. А. Вознесенский, Г. М. Маленков и А. С. Щербаков.
Назначения в Политбюро отражали изменения положения соратников Сталина во властной иерархии. В годы террора произошло дальнейшее расширение функций А. А. Жданова, представлявшего в Политбюро среднее поколение выдвиженцев. 16 апреля 1937 г. Политбюро приняло решение, согласно которому Жданов, начиная с мая 1937 г., должен был работать поочередно месяц в Москве и месяц в Ленинграде. Напомним, что прежнее решение Политбюро от 20 апреля 1935 г. предписывало Жданову проводить в Москве лишь одну десятидневку в месяц. В соответствии с постановлением о распределении обязанностей между секретарями ЦК ВКП(б), принятым Политбюро 27 ноября 1938 г., на Жданова были возложены «наблюдение и контроль за работой органов комсомола», а также «наблюдение и контроль за органами печати и дачу редакторам необходимых указаний». Благодаря частому пребыванию в Москве, Жданов принимал более активное участие в работе Оргбюро и Политбюро, часто посещал кабинет Сталина. Судя по протоколам, в отсутствие Сталина Жданов в этот период фактически замещал его в Политбюро. Во всяком случае, на многих решениях Политбюро, принятых без Сталина, первой стоит подпись Жданова.
Сам Сталин, как и прежде, демонстрировал свое особое расположение к Жданову. Можно отметить, что, как правило, Политбюро удовлетворяло все ходатайства, с которыми обращался Жданов как руководитель Ленинграда. 4 апреля 1939 г. Политбюро рассматривало Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении передовиков сельского хозяйства Ленинградской области. Сталин собственноручно внес имя Жданова в список награждаемых орденом Трудового Красного знамени. Незадолго до начала войны, 10 июня 1941 г., Политбюро рассматривало записку начальника лечебного управления Кремля о необходимости предоставить Жданову месячный отпуск в Сочи в связи с болезненным состоянием и «общим крайним переутомлением». Таких записок, касающихся различных чиновников высокого ранга, поступало много, и обычно Политбюро следовало рекомендациям медиков. Однако Жданов на этот раз получил больше, чем просили врачи. Политбюро приняло решение о полуторамесячном отпуске по резолюции Сталина: «Дать т. Жданову отпуск в Сочи на 1 1 / 2 месяца».
В группе самых молодых выдвиженцев с первых шагов террора лидировал Ежов, сосредоточивший в своих руках управление сразу несколькими ключевыми партийно-государственными структурами. По мере ослабления влияния Ежова, в противовес ему Сталин выдвигал Л. П. Берию и Г. М. Маленкова, сделавших буквально за несколько лет головокружительную карьеру. Тридцатидевятилетний Берия, отозванный из Грузии в Москву на пост заместителя наркома внутренних дел СССР только в августе 1938 г., уже в конце этого года стал наркомом внутренних дел, а в марте 1939 г. кандидатом в члены Политбюро. Судя по протоколам, непосредственно в работе Политбюро он принимал не слишком активное участие. Однако регулярно посещал кабинет Сталина и выносил на утверждение Политбюро многочисленные решения, касающиеся реорганизации и кадровых перестановок в НКВД, активно отстаивал интересы своего ведомства.
Благоприятное отношение к Берии сложилось у Сталина еще в начале 1930-х годов, когда он способствовал постепенному выдвижению Берии на роль лидера Закавказской Федерации. Предлагая назначить Берию первым секретарем Закавказского крайкома ВКП(б), Сталин в письме Кагановичу 12 августа 1932 г. писал: «Берия производит хорошее впечатление. Хороший организатор, деловой, способный работник». Сам Берия умело использовал повышенный интерес Сталина к ситуации в Закавказье, время от времени ненавязчиво напоминая ему об особом значении земляческих, национальных связей. В письмах Сталину Берия называл его «дорогой товарищ Коба». Составленная по инициативе Берии книга об истории большевистских организаций Закавказья возносила Сталина в разряд одного из главных вождей революционного движения в Российской империи. Энергичный и безжалостный Берия с энтузиазмом следовал «генеральной линии», в том числе преуспев в репрессиях в Закавказье.
Сталина устраивало также то, что Берия находился в острых конфликтных отношениях с бывшими руководителями Закавказья из старой партийной гвардии, которые группировались вокруг Орджоникидзе. Заслуженные закавказские большевики, вхожие в дома кремлевских вождей, распространяли о Берии не самые благоприятные сведения и, в частности, постоянно напоминали о его связях с разведкой мусаватистского правительства, находившегося у власти в Азербайджане в 1918–1920 гг. Об этом свидетельствуют письма Берии Орджоникидзе за 1930-е годы, отложившиеся в фонде Орджоникидзе в РГАСПИ. Берии, как видно из этих писем, приходилось демонстрировать крайнее уважение к Орджоникидзе и опровергать наветы недругов. «В Сухуме отдыхает Левон Гогоберидзе. По рассказам т. Лакоба и ряда других товарищей т. Гогоберидзе распространяет обо мне и вообще о новом закавказском руководстве гнуснейшие вещи. В частности, о моей прошлой работе в мусаватской контрразведке, утверждает, что партия об этом якобы не знала и не знает. Между тем Вам хорошо известно, что в муссаватскую разведку я был послан партией и что вопрос разбирался в ЦК АКП(б) (компартия Азербайджана, - О. X.) в 1920 г. в присутствии Вас […] и других. (В 1925 г. я передал Вам официальную выписку о решении ЦК АКП(б) по этому вопросу, которым я был совершенно реабилитирован, т. к. факт моей работы в контрразведке с ведома партии был подтвержден заявлениями […] (далее следовали фамилии свидетелей. - О. X.)», - писал, например, Берия Орджоникидзе 2 марта 1933 г. Сталина, несомненно, устраивало, что на Берию имелись определенные компрометирующие материалы. Эта история о связях с вражеской разведкой (специально, кстати, так и не изучавшаяся) будет висеть над Берией всю жизнь. Особую опасность эти факты приобрели в период «большого террора», когда активно выявлялись и пускались в ход «компрометирующие материалы» против советских функционеров и миллионов рядовых граждан. Берию не миновала эта участь. В июне 1937 г. на пленуме ЦК его обвинил в связях с мусаватистами нарком здравоохранения Г. Н. Каминский. Берия в очередной раз представил Сталину свидетельства о своей невиновности. Сталин предпочел поверить Берии. Каминский был арестован (хотя вряд ли только потому, что выступил против Берии). Этот же компромат против Берии в 1938 г. использовал Ежов, крайне встревоженный (и не без оснований) назначением Берии своим заместителем по НКВД. В начале октября 1938 г. Сталин затребовал от Берии объяснения по поводу выдвинутых Ежовым обвинений о службе Берии в муса-ватистской разведке. Берия вновь представил соответствующие свидетельства, которые были у него всегда наготове. При этом Берия хорошо понимал, что Сталин может как поверить, так и не поверить его оправданиям. И дело заключалось вовсе не в надежности свидетельств и оправдательных документов. В конце концов так и получилось, правда не со Сталиным. В 1953 г. так и не доказанные факты о службе у масаватистов будут использованы Хрущевым как один из пунктов обвинений, на основании которых Берию расстреляют.
В аналогичном положении потенциально виновного находился и другой выдвиженец террора Г. М. Маленков. Достигнув в 1937 г. всего лишь 35-летнего возраста, он успел пройти большую школу бюрократической деятельности в различных партийных инстанциях: в 1925–1930 гг. - в аппарате ЦК, в 1930–1934 гг. - в Московском комитете партии, затем с 1934 г. - в качестве заведующего отделом руководящих партийных органов ЦК ВКП(б). Отдел руководящих партийных органов был создан в 1934 г. как инструмент непосредственного контроля над секретарями республиканских, краевых и областных партийных организаций. В условиях террора и многократной смены кадров отдел приобрел особое значение, занимаясь подбором новых руководящих кадров. В 1937–1938 гг. Маленков, не будучи формально даже членом ЦК, имел благодаря своей должности непосредственный и регулярный выход на Сталина. Выполняя его поручения по кадровым вопросам, Маленков постоянно вносил на утверждение Политбюро предложения по назначениям партийно-государственных чиновников. В отдельных случаях инициатива кадровых перестановок принадлежала самому Маленкову, который обращался с соответствующими записками на имя Сталина.
Успешно справляясь с задачей чистки партийного аппарата, Маленков получил растущую поддержку и благосклонность Сталина. Именно Маленкову Сталин поручил выступить с основным докладом на январском пленуме ЦК в 1938 г., несмотря на то, что Маленков не являлся даже членом ЦК. Вскоре после пленума по предложению Сталина штаты отдела руководящих партийных органов были увеличены сразу на 93 единицы за счет создания аппарата ответственных организаторов ОРПО, курирующих каждую областную парторганизацию. После XVIII съезда партии, на котором Маленков выступил с одним из докладов, он становится членом ЦК, секретарем ЦК и членом Оргбюро. В самом конце марта 1939 г. Маленков возглавил новую структуру ЦК ВКП(б) - огромное Управление кадров ЦК, состоявшее из 45 отделов (по отраслям), инспекторской группы при начальнике управления (Маленкове) и архива личных дел. В предвоенные месяцы, судя по журналам записи посетителей кабинета Сталина, Маленков стал одним из ближайших сотрудников вождя. За полгода, до 22 июня, Маленков побывал у Сталина 60 раз, выйдя на второе место после Молотова.
Как и в отношении других своих сотрудников, Сталин располагал на Маленкова различными компрометирующими материалами. Как следует из письма Маленкова Сталину от 28 января 1939 г., отложившегося в фонде Сталина, в этот период в отношении ОРПО и самого Маленкова велось какое-то расследование. Маленков, в частности, жаловался Сталину на пристрастность московской партийной коллегии, ведущей дело. «Хочу сказать Вам, товарищ Сталин, - писал также Маленков, - что некоторые факты, известные Вам обо мне (касается личной морали), относятся ко времени задолго до того периода, когда я стал иметь доступ непосредственно к Вам. С тех пор как я впервые побывал лично у Вас, я, по хорошему переживая, как и всякий партиец, этот первый прием, дал себе твердое обещание быть перед Вами во всех отношениях образцовым партийцем. Держусь этого прочно». Новая угроза нависла над Маленковым после ареста Ежова, с которым в предшествующие годы Маленков был тесно связан в силу своего служебного положения. Ежов дал против Маленкова какие-то показания. И хотя Сталин не дал делу ход, Маленков помнил об этом эпизоде. В 1953 г. протокол допроса Ежова с показаниями против Маленкова был обнаружен в сейфе арестованного Берии и переслан Маленкову. Маленков уничтожил его.
Членом ЦК на XVIII съезде в 1939 г. был избран другой быстрорастущий выдвиженец Сталина - новый председатель Госплана СССР, тридцатишестилетний экономист Н. А. Вознесенский. До выдвижения на руководящие должности в Москве, Вознесенский в 1935–1937 гг. работал в Ленинграде под руководством Жданова. Не исключено, что именно Жданов рекомендовал Вознесенского Сталину. Сталин, судя по многим признакам, высоко ценил Вознесенского как специалиста и преданного делу руководителя. Этому образу соответствовал весь облик Вознесенского, который, однако, судя по свидетельствам очевидцев, вряд ли был приятным человеком. «Николай Алексеевич работал с исключительной энергией, быстро и эффективно решал возникавшие проблемы. Но он не умел скрывать своего настроения, был слишком вспыльчив. Причем плохое настроение проявлялось крайней раздражительностью, высокомерием и заносчивостью. Но когда Вознесенский был в хорошем настроении, он был остроумен, жизнерадостен, весел, любезен. В его манере держать себя, в беседах проявлялись образованность, начитанность, высокая культура. Но такие мгновения были довольно редки. Они проскальзывали как искры, а затем Вознесенский опять становился мрачным, несдержанным и колючим», - таким запомнил Вознесенского Я. Е. Чадаев, занимавший пост управляющего делами СНК СССР. А. И. Микоян, сочувственно относящийся к Вознесенскому и его трагической судьбе, тем не менее писал: «[…] Как человек Вознесенский имел заметные недостатки. Например, амбициозность, высокомерие. В тесном кругу узкого Политбюро это было заметно всем. В том числе его шовинизм».
Маленков и Вознесенский выступили с основными докладами на XVIII конференции ВКП(б), состоявшейся в январе - феврале 1941 г. На пленуме ЦК, собравшемся вскоре после конференции (21 февраля 1941 г.), Маленков, Вознесенский и новый первый секретарь московской партийной организации А. С. Щербаков (Н. С. Хрущева послали руководить Украиной) были избраны кандидатами в члены Политбюро. Предлагая эти новые кандидатуры пленуму ЦК, Сталин повторил аргументацию, изложенную на февральско-мартовском пленуме 1937 г.: «Мы здесь совещались, члены Политбюро и некоторые члены ЦК, пришли к такому выводу, что хорошо было бы расширить состав хотя бы кандидатов в члены Политбюро. Теперь в Политбюро стариков немало набралось, людей уходящих, а надо, чтобы кто-либо другой помоложе был подобран, чтобы они подучились и были, в случае чего, готовы занять их место. Речь идет к тому, что надо расширить круг людей, работающих в Политбюро.
Конкретно зто свелось к тому, что у нас сложилось такое мнение - хорошо было бы сейчас добавить. Сейчас 2 кандидата в Политбюро. Первый кандидат Берия и второй Шверник. Хорошо было бы довести до пяти, трех еще добавить, чтобы они помогали членам Политбюро работать. Скажем, неплохо было бы тов. Вознесенского в кандидаты в члены Политбюро ввести, заслуживает он это, Щербакова - первого секретаря Московской области и Маленкова - третьего. Я думаю хорошо было бы их включить».
Последующие события показали, что заявления Сталина не были простой декларацией. Выдвинувшиеся на волне репрессий Берия, Вознесенский, Маленков действительно заняли ключевые посты в послевоенный период. После смерти Сталина именно между выдвиженцами конца 1930-х годов, а именно: Берией, Маленковым и Хрущевым, развернулась основная борьба за право наследовать власть вождя.
Из книги Ракеты и люди. Фили-Подлипки-Тюратам автора Черток Борис ЕвсеевичНОВЫЕ ЗАДАЧИ И СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ Создание кораблей-спутников оказалось не только технически, но и организационно новой и сложной задачей.В течение первого ракетного десятилетия не менее 90% научно-технических проблем находились в компетенции первого Совета главных
Из книги Взлет и падение «красного Бонапарта». Трагическая судьба маршала Тухачевского автора Прудникова Елена АнатольевнаНовые соратники Однако за Тухачевским охотился не один Енукидзе. Существовал и еще один его старый знакомый, который не прочь был это знакомство возобновить. «После отпуска на Кавказе я был командирован на большие германские маневры… В пути вместе со мной оказался и
Из книги В ставке Гитлера. Воспоминания немецкого генерала. 1939-1945 автора Варлимонт ВальтерРазногласия новые и старые И опять перед некоторыми из тех немногих, кто был в курсе дела, – не только сотрудниками отдела «Л», – встал мучительный вопрос: как противодействовать новым замыслам Гитлера, как избежать нового и явно беспредельного распространения военных
Из книги АвтоНАШЕСТВИЕ на СССР. Трофейные и лендлизовские автомобили автора Соколов Михаил Владимирович Из книги Улица Марата и окрестности автора Шерих Дмитрий Юрьевич Из книги Воображаемые сообщества автора Андерсон Бенедикт5. СТАРЫЕ ЯЗЫКИ, НОВЫЕ МОДЕЛИ Закат эры успешных национально-освободительных движений в обеих Америках довольно точно совпал с началом эпохи национализма в Европе. Если рассмотреть характер этих новых национализмов, изменивших за период с 1820 по 1920 гг. облик Старого Света,
Из книги Империя Кремля автора Авторханов Абдурахман ГеназовичIII. Проблемы новые, а решения старые Поскольку статистические данные на этот счет являются величайшей тайной Кремля, то невозможно подсчитать, кто за счет кого живет в Советской империи - метрополия за счет советских колоний или советские колонии за счет метрополии. Но
Из книги «Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность автора Флёров Валерий СергеевичСтарые и новые проблемы
Из книги Сталин против Троцкого автора Щербаков Алексей ЮрьевичНовые старые методы После исключения Троцкого из партии ему пришлось покинуть квартиру в Кремле, которую он занимал с 1918 года. Лев Давидович не стал ожидать, пока его выселят, а покинул казенное жилье без напоминания. Он вместе с семьей переселился в квартиру к одному из
Из книги Боже, спаси русских! автора Ястребов Андрей Леонидович Из книги Скифия против Запада [Взлет и падение Скифской державы] автора Елисеев Александр ВладимировичСкифы «новые» и «старые» При этом, надо заметить, что этноним «сколот» очень близок к этому слову – и по значению, и по «звучанию». И можно даже предположить, что речь идет об одном и том же слове, но только прошедшем через некоторую эволюцию. Этноним «сколот» делает акцент
Из книги 500 великих путешествий автора Низовский Андрей ЮрьевичНовые старые дороги Луи Бугенвиля В 1766 г. Луи Антуан де Бугенвиль возглавил первую французскую кругосветную экспедицию, отправившуюся в дальний путь на двух кораблях. Миновав Магелланов пролив, путешественники вышли в Тихий океан, и спустя несколько недель, в
Из книги Мифы и загадки нашей истории автора Малышев ВладимирСтарые и новые тайны «Варяга» Недавно в Кронштадт был доставлен флаг славного крейсера «Варяг» и исполнилось 105 лет со дня знаменитого сражения в бухте Чемульпо. Казалось, что про этот героический крейсер и про его гибель мы знаем все еще со школьной скамьи. Однако знаем
Из книги История Советского Союза: Том 2. От Отечественной войны до положения второй мировой державы. Сталин и Хрущев. 1941 - 1964 гг. автора Боффа ДжузеппеСтарые и новые черты сталинизма В начале войны у Сталина и его правительства имелись серьезные опасения за прочность внутреннего фронта. С первых же военных дней все граждане, владевшие индивидуальными радиоприемниками (в то время, по правде говоря, таких было немного),
Из книги Страсти по революции: Нравы в российской историографии в век информации автора Миронов Борис Николаевич3. Новые и старые аргументы Увеличение длины тела населения органично укладывается в эту новую систему фактов. Причем длина тела - самый точный и самый простой для расчетов показатель, сравнительно с другими индикаторами благосостояния населения и, может быть, поэтому
Из книги Полное собрание сочинений. Том 7. Сентябрь 1902 - сентябрь 1903 автора Ленин Владимир ИльичНовые события и старые вопросы По-видимому, непродолжительное «затишье», которое отличало последние полгода или три четверти года нашего революционного движения – по сравнению с предшествующим быстрым и бурным развитием его – начинает приходить к концу. Как ни кратко
НЕСОСТОЯВШИЙСЯ «НАСЛЕДНИК» СТАЛИНА Он мог бы еще заседать в Политбюро
Несколько лет назад я должен был побывать в Измайлове в больнице для старых большевиков, где оказалась моя знакомая. В небольшой палате на четыре койки возле одной из больных сидел мужчина, лицо которого, показалось мне, я раньше видел. Это был Георгий Максимилианович Маленков, бывший премьер Советского правительства, многолетний фаворит и даже «наследник» Сталина. Он приехал в Измайлово, чтобы навестить свою жену Валерию Алексеевну, которой он был обязан началом своей карьеры. Маленков сильно похудел, но, хотя и был стар, отнюдь не смотрелся дряхлым стариком. Было заметно, что он тщательно следит и за своим внешним видом, и за здоровьем. Странно было сознавать, что в нескольких шагах от меня сидит человек, который когда-то хладнокровно отправлял на казнь и страдания десятки тысяч тех самых старых большевиков, для лечения которых и была построена эта огромная больница в Измайлове. Еще более странно было предположить, что этот человек из другой эпохи мог бы еще и в 1980 году заседать в Политбюро или возглавлять правительство. Ведь Маленков был всего на несколько месяцев старше М. А. Суслова и на несколько лет моложе А. Я. Пельше, которые тогда еще были влиятельными членами Политбюро. В начале 80-х годов наше руководство было самым старым (по возрасту) в мире, и Маленкову вполне нашлось бы место среди этих людей, близких ему также по взглядам и убеждениям.
Человек без биографии
О Маленкове трудно написать даже самый краткий очерк. В сущности, это был человек без биографии, деятель особых отделов и тайных кабинетов. Он не имел ни своего лица, ни собственного стиля. Он был орудием Сталина, и его громадная власть означала всего лишь продолжение власти Сталина. И когда Сталин умер, Маленков сумел удержаться у руководства страной и партией чуть более года. Наследство Сталина оказалось чрезмерно тяжелой ношей для Маленкова, и он не смог сохранить его в своих, как обнаружилось, не слишком сильных руках.
Георгий Маленков родился 8 января 1902 года в семье служащего. Согласно краткой официальной биографии, он ушел добровольцем на фронт защищать Советскую власть и в апреле 1920 года вступил в партию. Был политработником эскадрона, полка, бригады и даже Политуправления Восточного и Туркестанского фронтов. Однако, по неофициальным данным, он служил всего лишь писарем в политическом отделе и никогда не поднимал бойцов в атаку. Он плохо стрелял и едва держался на коне, но хорошо вел делопроизводство. По окончании Гражданской войны Маленков не стал возвращаться домой в Оренбург, а приехал в Москву и в 1921 году поступил в Высшее техническое училище. В мае 1920 года он женился на Валерии Голубцовой, которая занимала незначительную должность в аппарате ЦК РКП(б). Этот брак был первой ступенькой в стремительной партийной карьере Маленкова.
Успехи в кабинетной работе
До начала 1925 года Маленков был студентом Высшего технического училища. Многие студенты – члены партии 1923-1924 годов – увлекались Троцким, и платформа троцкистской оппозиции нередко собирала большинство в студенческих ячейках того времени. Но Маленков с самого начала стоял на ортодоксальных позициях и выступал против троцкистов и их платформы. Когда после поражения Троцкого была создана комиссия по проверке студентов – членов партии, поддерживавших оппозицию, в нее вошел и двадцатидвухлетний студент Георгий Маленков. Его активность была замечена. По совету и настоянию жены Маленков оставил институт перед самым окончанием ради должности технического секретаря Оргбюро ЦК РКП(б). Он проявил себя отличным канцеляристом. Года через два Маленков стал техническим секретарем Политбюро.
Когда Маленкову исполнилось 50 лет, в приветствии ЦК о нем говорилось как об «ученике Ленина» и «соратнике Сталина». Маленков не был, конечно, «учеником Ленина», которого мог видеть только издалека. Но со Сталиным он встречался часто, как и любой технический работник аппарата Политбюро. Молодой Маленков не был главным лицом в этом небольшом техническом аппарате, он подчинялся личному секретарю Сталина А. Поскребышеву. Однако Маленков не слишком долго задержался на чисто технической работе.
В конце 20-х годов Сталин добился смещения Н. А. Угланова с поста первого секретаря МК партии. Было сменено и все бюро столичной организации, обвиненное в принадлежности к так называемому «правому» уклону. Во главе Московской организации вначале встал Молотов, но в 1930 году «вождем» московских большевиков был избран Л. М. Каганович. Он-то и выдвинул Маленкова на более ответственную работу. Маленков стал заведующим орготделом в Московском комитете партии. Фактически это был отдел кадров, с помощью которого осуществлялись все назначения в московских райкомах, а также утверждались секретари всех крупных первичных партийных организаций. В это время Маленков познакомился со многими лидерами партии и с молодыми выдвиженцами, как, например, Н. С. Хрущев. Работу по «чистке» Московской партийной организации от бывших оппозиционеров (тогда это означало еще лишь исключение из партии или понижение в должности и только в крайнем случае – арест) Маленков провел, с точки зрения Кагановича, да и Сталина, очень хорошо. Между тем Сталин сразу же после XVII съезда партии стал перестраивать весь аппарат ЦК ВКП(б), подготавливая его к предстоящим новым и более жестоким «чисткам». Ему нужны были свежие кадры. Сталин и раньше знал Маленкова. К тому же Каганович был о Маленкове лучшего мнения. И когда возник вопрос о назначении нового заведующего отделом руководящих партийных органов ЦК, выбор Сталина пал на Маленкова.
Почти одновременно с Маленковым Сталин выдвинул на самые ответственные посты в партийном аппарате и Н. И. Ежова. Ежов стал секретарем ЦК ВКП(б) и занял вместо Кагановича пост председателя Комиссии партийного контроля. Между Ежовым и Кагановичем началась скрытая вражда из-за влияния на Сталина, которую последний только поощрял. Маленков, хотя не был еще членом ЦК, принял сторону Ежова и вскоре стал одним из его ближайших друзей, тогда как с Кагановичем у него сложились теперь крайне неприязненные отношения. Под руководством Ежова и при активном участии Маленкова в первой половине 1936 года в стране была проведена проверка партийных документов. Фактически это была еще одна «чистка» партии и канцелярская подготовка террора. На каждого члена партии заводилось весьма подробное «личное дело».
Тайные пружины террора
Если Сталин был главным организатором и вдохновителем массового террора 1937-1938 годов, то Ежов – главным исполнителем этой страшной кровавой кампании. Именно Ежов был назначен в 1936 году наркомом внутренних дел СССР, возглавил карательные органы, которым предоставлялись чрезвычайные полномочия по выявлению, изоляции и уничтожению тех людей, которых стали теперь называть «врагами народа». Маленков действовал в тени, но именно он был одним из тех, кто под руководством Сталина приводил в движение наиболее важные тайные пружины террора. В книге «Крушение поколения» И. Бергер, однако, писал: «Маленков в отличие от Молотова и Кагановича не нес прямой ответственности за сталинский террор 30-х годов» (Бергер И. Крушение поколения. С. 294.). Это мнение ошибочно. Формально Маленков не входил тогда ни в какие руководящие государственные органы. Он присутствовал в качестве делегата на XVII съезде партии, но не был избран ни членом, ни кандидатом в члены ЦК ВКП(б), не вошел он и в комиссии партийного и советского контроля и даже в Центральную Ревизионную Комиссию. Формально он не участвовал, таким образом, даже в Пленумах ЦК, включая и февральско-мартовский Пленум 1937 года. И тем не менее, находясь во главе отдела руководящих парторганов ЦК, Маленков играл в событиях 1937-1938 годов не менее важную роль, чем Ежов, Берия, Каганович и Молотов. Наделенный чрезвычайными правами, Маленков руководил репрессиями не только в тиши своего кабинета, но и непосредственно на местах, в различных республиках и областях. Было немало случаев, когда он лично присутствовал на допросах и пытках арестованных партийных руководителей. Так, например, Маленков вместе с Ежовым выезжал в 1937 году в Белоруссию, где был учинен настоящий разгром партийной организации республики. Осенью этого же года Маленков с Микояном побывали в Армении, где также был репрессирован почти весь партийный и советский актив этой республики. При участии Маленкова составлялся план репрессий во всех областях РСФСР, затем в его отделе подбирали новые кандидатуры секретарей обкомов и горкомов на место арестованных и расстрелянных.
Чтобы замаскировать масштабы террора, в январе 1938 года в Москве был проведен Пленум ЦК, который рассмотрел вопрос «Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии…». На этом Пленуме присутствовали всего 28 из 71 члена ЦК, избранного на XVII съезде партии. Лишь несколько человек с тех пор умерло, тогда как почти сорок человек было к тому времени арестовано. Характерно, что Пленум обсуждал доклад Маленкова, который формально не был членом ЦК. Январский Пленум ЦК не остановил массовых репрессий, которые еще много месяцев свирепствовали по всей стране.
В 1937-1938 годах Маленков работал в постоянном контакте с Ежовым. В журнале «Партийное строительство», который некоторое время редактировался Маленковым, мы можем найти множество восхвалений Ежова – «сталинского наркома», «верного стража социализма». Но Маленков не разделил судьбы Ежова и с конца 1938 года стал тесно сотрудничать с Л. П. Берией, сменившим Ежова на посту главы НКВД.
Появление на открытой сцене
По существу, только в 1939 году Маленков начинает выходить из тайных кабинетов власти и появляться на открытой политической арене. На XVIII съезде ВКП(б) Маленков возглавил мандатную комиссию и сделал на пятом заседании съезда доклад о составе съезда. Он был избран в члены Центрального Комитета ВКП(б), а на Пленуме ЦК 22 марта 1939 года – секретарем ЦК. В этот Секретариат, возглавляемый Сталиным, вошли также А. А. Андреев и А. А. Жданов. С тех пор Маленков неизменно входил в состав этого органа ЦК, который в повседневном практическом руководстве партией играл при Сталине, пожалуй, даже большую роль, чем Политбюро. Маленков был избран также членом Оргбюро ЦК. Отдел руководящих партийных органов ЦК был реорганизован в Управление кадрами ЦК ВКП(б), во главе которого по-прежнему оставался Маленков.
Постепенно стал расширяться круг проблем, которыми теперь занимался Маленков как секретарь ЦК. Ему было поручено, например, контролировать развитие промышленности и транспорта. Когда в феврале 1941 года состоялась XVIII Всесоюзная конференция ВКП(б), посвященная хозяйственным проблемам и итогам выполнения первых лет третьего пятилетнего плана то главный доклад на ней о задачах промышленности и транспорта сделал Маленков. Тогда же состоялся Пленум ЦК, на котором Маленков был избран кандидатом в члены Политбюро. Он занял отныне прочное место в ближайшем окружении Сталина.
Маленков в годы войны
Когда началась Отечественная война, Маленков, к удивлению многих, вошел в первый же состав Государственного Комитета Обороны, хотя он не был еще в то время полноправным членом Политбюро. В первые два года войны Маленкову приходилось выезжать во главе специальных комиссий на участки фронта, где создавалась угрожающая ситуация. В августе 1941 года он находился в Ленинграде, осенью того же года – на фронте под Москвой, в августе 1942 года как член ГКО прибыл в Сталинград – помочь в организации обороны города. Но постепенно Маленков перестал принимать участие в решении чисто военных вопросов и сосредоточился на отдельных проблемах военно-оборонного производства. Его главной задачей стало оснащение Красной армии самолетами. Как известно, после огромных потерь советской авиации в первые недели войны германская армия имела превосходство в воздухе до конца 1942 года. Однако соотношение сил стало меняться в 1943 году. Советская промышленность сумела обеспечить отечественные ВВС большим количеством современных машин, и уже к моменту сражения на Курской дуге превосходство в воздухе стало переходить к Красной армии. Определенные заслуги в налаживании производства самолетов были и у Маленкова, в связи с чем ему было присвоено в сентябре 1943 года звание Героя Социалистического Труда. Осенью того же года Маленков возглавил Комитет при СНК СССР по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от оккупации.
В 1944 году, когда победа СССР над Германией вполне определилась, в ЦК ВКП(б) было проведено под руководством Маленкова специальное идеологическое совещание. На этом совещании ставился вопрос о пересмотре отношения к немецкому классическому наследию. Было, в частности, принято решение «О недостатках и ошибках в освещении истории немецкой философии конца XVIII – начала XIX вв.». Совещание продолжалось несколько дней. Как раз тогда Сталин и высказал свою многозначительную по форме, но нелепую по содержанию мысль о том, что немецкая классическая идеалистическая философия была консервативной реакцией на французскую революцию. Сталин добавил также, что для немецких философов были характерны апологетика прусской монархии и третирование славянских народов. Было решено сохранить присужденную ранее Сталинскую премию только за первыми двумя томами «Истории философии» и изъять третий том, посвященный немецкой классической философии.
Осенью того же 1944 года Сталин созвал в Кремле расширенное совещание, на которое были приглашены члены Политбюро и Секретариата ЦК, первые секретари республиканских и областных комитетов партии, руководители оборонной промышленности, армии и государственной безопасности. Речь шла о «еврейской проблеме». В своем вступительном слове Сталин – правда, с некоторыми оговорками – высказался за «более осторожное» назначение евреев на руководящие должности в государственных и партийных органах. Каждый из участников совещания понял, однако, что речь идет о постепенном вытеснении лиц еврейской национальности с ответственных постов. Наиболее подробным на этом совещании было выступление Маленкова, который обосновывал необходимость «повышения бдительности» по отношению к еврейским кадрам. Вскоре после совещания в ЦК ВКП(б) партийные комитеты различных уровней получили подписанное Маленковым директивное письмо, которое тогда в партийных кругах называли «маленковским циркуляром». В нем перечислялись должности, на которые назначение людей еврейской национальности было нежелательно. Одновременно вводились и некоторые ограничения при приеме евреев в высшие учебные заведения.
Сразу же после войны Маленков возглавия Комитет по демонтажу немецкой промышленности. Его работа на этом посту была нелегкой и подвергалась критике, так как многие влиятельные ведомства боролись, чтобы получить как можно больше оборудования. В этот период возникли споры и ухудшились личные отношения между Маленковым и председателем Госплана Н. А. Вознесенским. Для рассмотрения конфликтов была создана комиссия во главе с Микояном. Она вынесла неожиданное решение – прекратить вообще демонтаж немецкой промышленности и наладить производство товаров для СССР в Германии в качестве репарации. Это решение было утверждено на Политбюро, несмотря на возражения Кагановича и Берии.
«Ленинградское дело»
Репрессии 30-х годов привели к гибели сотен тысяч опытных руководителей и к выдвижению на высокие посты сотен тысяч новых людей, не обладавших достаточным опытом руководящей работы. Однако начавшаяся вскоре Отечественная война принесла не только громадные людские и материальные потери. Война выдвинула новых государственных деятелей, талантливых полководцев, хозяйственников, заслуги и достижения которых нельзя было игнорировать даже Сталину. Одну из таких групп составляли бывшие партийные и хозяйственные работники Ленинграда, им покровительствовал также А. А. Жданов, влияние которого на Сталина, особенно в области идеологии и руководства коммунистическим движением, явно возросло.
После войны Маленков – полноправный член Политбюро. Стал членом Политбюро и Берия, с которым у Маленкова установились вполне доверительные и близкие к политическому союзу отношения. Но среди новых членов Политбюро был и Н. А. Вознесенский, игравший в руководстве экономикой теперь бульшую роль, чем Каганович, Микоян или Маленков. Секретарем ЦК ВКП(б) был избран и А. А. Кузнецов, который не только возглавил Управление кадров, но и стал курировать органы МВД и МГБ. Это ослабило позиции Маленкова в аппарате ЦК. Жданов и Вознесенский явно доминировали теперь в области идеологии и общественных наук, где ни Берия, ни Маленков никогда не чувствовали себя особенно сильными. Между тем Сталин уже во второй половине 1948 года стал часто болеть, в 1949 году он перенес, по-видимому, первое кровоизлияние в мозг. Все это усилило борьбу за власть среди ближайшего сталинского окружения. На короткое время, еще до болезни Сталина, жертвой этой борьбы стал и сам Маленков. Не без участия сына Сталина Василия было создано провокационное дело о низком уровне советской авиационной промышленности. В результате были арестованы командующий ВВС Красной армии Главный маршал авиации А. А. Новиков, член ЦК ВКП(б) А. И. Шахурин, работавший в годы войны наркомом авиационной промышленности СССР, а также многие другие работники авиапромышленности и военные авиаторы. Все эти аресты отразились и на Маленкове. Он был освобожден от работы в аппарате ЦК и направлен в Ташкент. Эта «ссылка» длилась, однако, недолго. Особенно большие усилия для полной реабилитации и возвращения в Москву Маленкова приложил Берия.
Берия в это время вел сложную интригу, направленную на компрометацию Жданова, Вознесенского и их ближайшего окружения. Маленков стал помогать Берии. Между Ждановым и Маленковым давно уже существовали крайне неприязненные отношения. Жданов и его ближайшие друзья считали Маленкова неграмотным выдвиженцем и в своем кругу называли его Маланьей – это был намек на женоподобный внешний облик тучного Маленкова. Берии и Маленкову удалось убедить Сталина, которого и без того раздражали теоретические претензии Жданова и Вознесенского, в «сепаратизме» Ленинградской партийной организации и выдвиженцев из Ленинграда. Так возникло «ленинградское дело», жертвой которого стали все руководители Ленинградской партийной организации во главе с П. С. Попковым. Репрессии распространились потом вниз и охватили сотни и тысячи партийных и комсомольских работников Ленинграда, ученых, тружеников народного хозяйства. Они двинулись и вверх, приведя к аресту и гибели Н. А. Вознесенского, А. А. Кузнецова, М. И. Родионова и других ответственных работников партийного и советского аппарата. Маленков взял на себя разгром Ленинградской партийной организации, для чего выехал в Ленинград. Берия руководил репрессиями в Москве. Жданов, который недавно сам возглавлял погромные идеологические кампании, фактически был отстранен от руководства и умер у себя на даче в возрасте 52 лет при не вполне выясненных обстоятельствах.
Недавно материалы «ленинградского дела» были вновь рассмотрены Комитетом партийного контроля при ЦК КПСС. В опубликованном заключении недвусмысленно говорится: «Вопрос о преступной роли Г. М. Маленкова в организации так называемого «ленинградского дела» был поставлен после июньского (1957 г.) Пленума ЦК КПСС. Однако Г. М. Маленков, заметая следы преступлений, почти полностью уничтожил документы, относящиеся к «ленинградскому делу». Бывший заведующий секретариатом Г. М. Маленкова – А. М. Петроковский сообщил в КПК при ЦК КПСС, что в 1957 году он произвел опись документов, изъятых из сейфа арестованного помощника Г. М. Маленкова – Д. Н. Суханова. В сейфе в числе других документов была обнаружена папка с надписью «ленинградское дело», в которой находились записки В. М. Андрианова, личные записи Г. М. Маленкова, относящиеся ко времени его поездки в Ленинград, более двух десятков разрозненных листов проектов постановлений Политбюро ЦК, касающихся исключения из ЦК ВКП(б) Н. А. Вознесенского, конспекты выступлений Г. М. Маленкова в Ленинграде и записи, сделанные им на бюро и пленуме Ленинградского обкома и горкома партии. Во время заседаний июньского (1957 г.) Пленума ЦК КПСС Г. М. Маленков несколько раз просматривал документы, хранившиеся в сейфе Д. Н. Суханова, многие брал с собой, а после того как был выведен из состава ЦК КПСС, не вернул материалы из папки «ленинградского дело», заявив, что уничтожил их как личные документы. Г. М. Маленков на заседании КПК при ЦК КПСС подтвердил, что уничтожил эти документы» (Известия ЦК КПСС. 1989. № 2. С. 133-134.).
Еще совсем недавно сын Маленкова ставил под сомнение факт прямого участия своего отца в репрессиях (См.: Из редакционной почты // Горизонт. 1988. № 12. С. 16.). Выводы КПК, однако, позволяют внести ясность и в этот вопрос: «С целью получения вымышленных показаний о существовании в Ленинграде антипартийной группы Г. М. Маленков лично руководил ходом следствия по делу и принимал в допросах непосредственное участие. Ко всем арестованным применялись незаконные методы следствия, мучительные пытки, побои и истязания» (Известия ЦК КПСС. 1989. № 2. С. 130.).
После смерти Жданова Маленков принял также и его функции в области идеологии. Под его началом набирала силу антисемитская кампания. Маленков принимал активное участие в создании фальсифицированного «дела Еврейского антифашистского комитета», по которому весной 1952 года приговорены к расстрелу начальник Совинформбюро и бывший заместитель министра иностранных дел С. А. Лозовский, писавшие на языке идиш литераторы И. Фефер, П. Маркиш, Л. Квитко и другие известные деятели науки и культуры.
Председатель военной коллегии Верховного суда СССР генерал-лейтенант юстиции А. А. Чепцов, который был принужден подписать несправедливый приговор, после июньского Пленума ЦК 1957 года по требованию Г. К. Жукова дал письменное объяснение, в котором писал:
«Я позвонил ему (Маленкову. – Р. М.) по телефону, просил принять и выслушать меня… Через несколько дней я был вызван к Маленкову, который вызвал также Рюмина и т. Игнатьева (заместитель министра и министр госбезопасности. – Р. М.).
Я полагал, что Маленков меня поддержит и согласится с моими доводами… Однако, выслушав мое сообщение, он дал слово Рюмину, который стал меня обвинять в либерализме к врагам народа… обвинял в клевете на органы МГБ СССР и отрицал применение физических мер воздействия. Я вновь заявил, что Рюмин творит беззаконие, однако Маленков заявил буквально следующее: «Вы хотите нас на колени поставить перед этими преступниками, ведь приговор по этому делу апробирован народом, этим делом Политбюро ЦК занималось 3 раза, выполняйте решение ПБ».
…Мы, судьи, как члены партии вынуждены были подчиниться категорическому указанию секретаря ЦК Маленкова» (Цит. по: Ваксберг А. Заслуженный деятель // Литературная газета. 1989. 15 марта.).
Когда Маленков узнал, что по требованию Сталина его дочь Светлана развелась со своим мужем, в котором «вождь» усмотрел еврея, то он велел своей дочери Воле поступить так же, ибо зять его был евреем.
Второй человек в партии
После гибели Вознесенского и Кузнецова, а также после смерти Жданова влияние Маленкова в партийном и государственном руководстве значительно возросло. По мере того как Сталин отдалял от себя таких старых соратников, как Молотов, Ворошилов, Каганович и Микоян, он все более и более приближал к себе Маленкова. Когда в декабре 1949 года «Правда» начала публиковать большие статьи членов Политбюро, посвященные 70-летию Сталина, то первой была опубликована статья Маленкова и лишь затем Молотова. Для всех, кто понимал значение подобных вещей, это было признаком особого доверия.
Не брезговал Маленков и мелким угодничеством. Па его поручению накануне 70-летия Сталину готовился подарок – перевод юношеских стихотворений вождя с грузинского языка на русский. Переводчик (известный поэт Арсений Тарковский) в спешном порядке выполнил заказ Маленкова, но стихи Сталина так и не были напечатаны. Чутье на этот раз изменило Маленкову – слава стихотворца вождя не привлекала.
В 1950-1952 годах Маленков был, безусловно, вторым по значению человеком в партии. Влияние Маленкова увеличивалось также благодаря его дружбе с Берией. Сталин приблизил к себе в это время еще двух человек – Хрущева и Булганина, однако их значение в партийно-государственных делах было гораздо меньшим.
Маленков был молчалив и осторожен, но его интеллект и даже роль в партии часто преувеличивались западными авторами и современными дипломатами. Георг Бартоли утверждал, что Сталин доверял Маленкову все свои тайны и поэтому последний «знал все обо всех». Бартоли писал о Маленкове:
«Он умен и осторожен, как дикий кот. Один французский политик, который встречался с Маленковым в период его подъема, говорил мне: «Он напоминал мне юного Лаваля». Подобно последнему он соединял в себе острый ум с величайшим самообладанием и осмотрительностью. Джилас, который его раньше встречал, выразился о нем в таком смысле: «Он производит впечатление скрытного, осторожного и болезненного человека, но под складками жирной кожи, казалось бы, должен жить совсем другой человек, живой и умный человек с умными, проницательными черными глазами» (Бартоли Г. Когда Сталин умер. Штутгарт, 1974. С. 96-97.).
В книге А. Авторханова «Технология власти» можно прочесть: «Нынешняя КПСС – детище двух людей: Сталина и Маленкова. Если Сталин был ее главным конструктором, то Маленков – ее талантливый архитектор» (Авторханов А. Технология власти. 2-е изд. Франкфурт-на-Майне, 1977. С. 634.).
С подобным утверждением нельзя согласиться. Маленкова ошибочно было бы называть «архитектором», а тем более «талантливым архитектором» партийного строительства. В лучшем случае он был одним из нескольких «прорабов», причем далеко не из самых способных. Может быть, именно это и дало Сталину повод сделать Маленкова своим фаворитом. Сталин плохо переносил присутствие возле себя истинно талантливых людей.
В начале 50-х годов Маленков контролировал от имени Сталина не только партийный аппарат. Как член Политбюро и секретарь ЦК он вмешивался в вопросы развития промышленности и транспорта. Однако в первую очередь ему было поручено руководство сельским хозяйством – как раз в это время с большой пропагандистской шумихой началось осуществление так называемого «сталинского плана преобразования природы». Большое значение придавалось и «трехлетнему плану» ускоренного развития животноводства. Маленков не мог справиться с такими огромными проектами хотя бы потому, что они исходили из ошибочных представлений о реальном состоянии советского сельского хозяйства к началу 50-х годов.
После смерти Жданова Маленков занимался также и некоторыми идеологическими проблемами.
Эпизодически ему приходилось и раньше решать вопросы, связанные с идеологией и культурой. Так, например, еще во время войны Маленков разбирал дело поэта Сельвинского. В 1942 году Илья Сельвинский написал стихотворение «России», в котором были такие строки:
Сама как русская природа, душа народа моего – она пригреет и урода, как птицу выходит его…
Через год в словах об «уроде» кто-то сумел вычитать скрытый смысл. Сельвинского вызвали с фронта в Москву. Сохранилась его дневниковая запись: «Заседание Оргбюро ЦК вел Маленков. «Кто этот урод?» – металлическим голосом спросил он. Я начал было объяснять ему смысл этого четверостишия, но он меня перебил: «Вы тут нам бабки не заколачивайте. Скажите прямо и откровенно: кто этот урод? Кого именно имели вы в виду? Имя?» – «Я имел в виду юродивых». «Неправда! Умел воровать, умей и ответ держать!» Вдруг я понял, что здесь имеют в виду Сталина: лицо его изрыто оспой, мол, русский народ пригрел урода…
Неизвестно, как и откуда в комнате появился Сталин. Неся, как обычно, одну руку в полусогнутом состоянии, точно она висела на перевязи, он подошел к Маленкову и стал тихо о чем-то с ним разговаривать. Насколько я мог судить, речь шла не обо мне. Затем Сталин отошел от Маленкова, собираясь, видимо, возвратиться к себе, и тут взглянул на меня: «С этим человеком нужно обращаться бережно – его очень любили Троцкий и Бухарин…»
Я понял, что тону. Сталин уже удалялся. «Товарищ Сталин! – заторопился я ему вдогонку. – В период борьбы с троцкизмом я еще был беспартийным и ничего в политике не понимал». Сталин остановился и воззрился на меня напряженным взглядом. Затем подошел к Маленкову, дотронулся ребром ладони до его руки и сказал: «Поговорите с ним хорошенько: надо… спасти человека».
Сталин ушел в какую-то незаметную дверцу, и все провожали его глазами. Маленков снова обратился ко мне: «Ну, вы видите, как расценивает вас товарищ Сталин! Он считает вас совершенно недостаточно выдержанным ленинцем». – «Да, но товарищ Сталин сказал, что меня надо спасти». Эта фраза вызвала такой гомерический хохот, что теперь уже невозможно было всерьез говорить о моем «преступлении».
Возвратился домой совершенно разбитым: на Оргбюро я шел молодым человеком, а вышел оттуда – дряхлым стариком. Боже мой! И эти люди руководят нашей культурой» (Цит. по: Озеров Л. Возвращение // Книжное обозрение. 1988. №38.).
Как один из руководителей «идеологического фронта», Маленков назначал и снимал главных редакторов журналов. В 1950 году А. Т. Твардовскому неожиданно предложили возглавить журнал «Новый мир». Вместе с Фадеевым и Симоновым Твардовский был приглашен к Маленкову, на столе у которого лежала голубая книжка «Нового мира». Маленков спросил: «Вы знаете, чем толстый журнал отличается от тонкого?» Твардовский промолчал, а Маленков, выдержав паузу, наставительно сказал: «Толстый журнал печатает вещи с продолжениями». В одном из журналов в передовой статье вместо фразы «Страны народной демократии идут от капитализма к социализму» было напечатано: «Страны народной демократии идут от социализма к капитализму». Вопрос об этой ошибке, которую кое-кто счел «идеологической диверсией», разбирался лично Маленковым. На этот раз он проявил «снисходительность», и дело обошлось без арестов. Виновные отделались лишь строгими партийными взысканиями.
Маленков, Берия, Булганин и Хрущев были постоянными посетителями ночных ужинов у Сталина. Сталин и сам теперь нередко терял присущую ему прежде умеренность в еде и питье. Он очень часто спаивал и Маленкова. Уже под утро охрана привозила Маленкова домой, и два-три человека приводили его в чувство в большой ванной комнате. Только к середине дня он обретал способность работать.
В начале 50-х годов на экраны страны вышел двухсерийный фильм «Сталинградская битва». В одном из его эпизодов показано, как Маленков, прибывший будто бы с особыми полномочиями на Сталинградский фронт, выступает перед уходящими в бой солдатами и говорит им о Сталине. Это был художественный фильм, где роли вождей исполняли известные артисты. Не было тайной, что картину несколько раз просмотрел и редактировал сам Сталин. Поэтому появление в фильме Маленкова расценивалось как знак особого доверия.
После войны у нас в стране не проводилось ни съезда, ни Всесоюзной конференции партии, что было явным нарушением Устава. Однако необходимость в созыве очередного съезда партии становилась все более настоятельной. Дело было не только в том, чтобы отчитаться за проделанную после 1939 года работу. Необходимо было обновить партийное руководство и избрать новый состав ЦК. Со времени XVIII съезда прошел целый исторический период. Война, послевоенное строительство, новая международная политика и новые репрессии существенно изменили характер партийного и государственного руководства. Некоторые из членов ЦК ВКП(б) были арестованы или даже физически уничтожены, часть из них умерла или отошла от активной деятельности. С другой стороны, выдвинулось много новых людей, которые руководили крупнейшими министерствами, ведомствами, областными и даже республиканскими партийными организациями, но которые не состояли в ЦК.
Подготовкой нового съезда занималась специальная комиссия ЦК, возглавляемая Маленковым. Именно ему Сталин поручил сделать на съезде Отчетный доклад. Конечно, это тоже было признаком особого доверия. Сам Сталин в то время был уже слишком слаб и стар, чтобы в течение трех-четырех часов произносить Отчетный доклад перед большой аудиторией. Но этого обстоятельства не знал никто, кроме самого ближайшего окружения. И не это было тогда главным доводом. Культ личности Сталина достиг в тот период таких размеров, что было бы странным ставить его перед необходимостью в чем-то отчитываться перед партией и народом и выслушивать какие-либо критические замечания делегатов съезда. Должность Генерального секретаря ЦК ВКП(б) была упразднена. Сталин оставался в партии лишь Секретарем. Наибольшее значение приобрела, как и во времена Ленина, должность Председателя Совета Министров СССР, которую занимал Сталин. Роль партии вообще была снижена. Партия не могла, например, контролировать деятельность карательных органов, которые подчинялись непосредственно Сталину. В этих условиях Сталин вовсе не считал своей обязанностью чтение Отчетного доклада на предстоящем съезде партии. К тому же незадолго до съезда в печати появился его новый труд «Экономические проблемы социализма в СССР», который сразу же был объявлен «гениальным» и «классическим». Он и должен был послужить основой для работы предстоящего съезда, тогда как Отчетный доклад казался лишь протокольной необходимостью. Такова была обстановка в нашей стране перед XIX съездом партии.
Авторханов утверждает, что перед съездом происходила какая-то закулисная борьба между Сталиным и Маленковым, в которой Маленков «осмелился открыто возражать Сталину» и даже одержал над ним политическую победу. «Уже к смерти Сталина, – пишет Авторханов, – партия и ее аппарат фактически находились в руках Маленкова… В 1952 году на XIX съезде Маленков выступил с Политическим отчетом ЦК партии, который должен был, собственно, делать сам Сталин. После этого для всех было ясно – либо Сталин ему бесконечно доверяет и готовит в его лице себе преемника, либо Маленков и для Сталина стал такой силой, с которой приходится считаться. В свете последовавших после смерти Сталина событий я считаю правильным последнее предположение» (Авторханов А. Технология власти. С. 641-642.).
Все это чистые домыслы. Маленков при жизни Сталина никогда не осмеливался возражать ему, а тем более вступать с ним в какую-то борьбу. Только полное послушание Маленкова и его безоговорочная лояльность могли быть основой того доверия, благодаря которому Сталин поручил делать Политический отчет на XIX съезде именно Маленкову. Но это вовсе не означало, что он определен в «преемники» Сталина. Сталин не думал о смерти, он собирался еще жить и править страной долго. Более того, он намечал тогда провести новый тур репрессий, и съезд партии должен был послужить одной из подготовительных ступеней к ним.
XIX съезд партии
Нет необходимости особо останавливаться на содержании того Отчетного доклада, который был сделан Маленковым на XIX съезде партии. Его схему можно было без труда наметить заранее. Маленков не стал говорить о событиях Отечественной войны или о том, что ей предшествовало, хотя именно это было главным между XVIII и XIX съездами партии. Первый раздел своего доклада Маленков посвятил теме ослабления мировой капиталистической системы в результате мировой войны и обострения международного положения, проявлением чего была шедшая в то время война в Корее, а также «холодная война» между двумя мировыми системами.
Значительное внимание в докладе было уделено различным аспектам борьбы за мир, а также отношениям между СССР и дружественными ему странами. Маленков отметил успехи промышленности, в крайне приукрашенных тонах говорил о состоянии сельского хозяйства. Так, например, он привел очень завышенные и не соответствовавшие действительности данные о больших урожаях зерна и под бурные аплодисменты заявил, что «зерновая проблема, считавшаяся ранее наиболее острой и серьезной проблемой, решена с успехом, решена окончательно и бесповоротно» (Правда. 1952. 6 окт.).
Не прошло и двух лет, как было установлено, что в стране существует крайне острый дефицит зерна, сельское хозяйство переживает тяжелый кризис и данные о валовых сборах зерна, которые приводил в своем докладе Маленков, основаны на фальсификации. Как известно, зерновая проблема в СССР не решена и до сих пор, она остается «острой и серьезной» поныне. В разделе доклада об укреплении советского государственного и общественного строя Маленков повторил известный сталинский тезис о необходимости всемерно укреплять и усиливать государственный аппарат, включая и карательные органы. Говоря о партийном строительстве, Маленков полностью оправдывал проведенные перед войной массовые репрессии. По его утверждению, в 30-е годы в нашей стране были уничтожены «выродки», «капитулянты», «гнусные предатели», «изменники», которые якобы только ждали военного нападения на Советский Союз, рассчитывая нанести в трудную минуту «удар в спину в угоду врагам нашего рода». Маленков заявил:
«Разгромив троцкистско-бухаринское подполье, являвшееся центром притяжения всех антисоветских сил в стране, очистив от врагов народа наши партийные и советские организации, партия тем самым своевременно уничтожила всякую возможность появления в СССР «пятой колонны» и политически подготовила страну к активной обороне» (Там же.).
Как и следовало ожидать, в разделе об идеологических проблемах Маленков ссылался в первую очередь на недавно опубликованную работу Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР».
Затронул Маленков и проблемы литературы. Он посетовал, что в нашей литературе и в искусстве до сих пор отсутствуют такие виды художественных произведений, как сатира.
«Неправильно было бы думать, – сказал Маленков, – что наша советская действительность не дает материала для сатиры. Нам нужны советские Гоголи и Щедрины, которые огнем сатиры выжигали бы из жизни все отрицательное, прогнившее, омертвевшее, все то, что тормозит движение вперед» (Правда. 1952. 6 окт.).
Разумеется, что заявление было чистейшей воды демагогией. Любая сатира и после XIX съезда продолжала рассматриваться как очернительство или клевета. Через год после съезда, когда Сталина уже не было в живых, сатирик Юрий Благов написал по поводу заявления Маленкова эпиграмму:
Мы за смех, но нам нужны
Подобрее Щедрины
И такие Гоголи,
Чтобы нас не трогали.
Маленков попытался даже дать некоторые теоретические определения. Так, например, он посвятил несколько минут в своем докладе «марксистско-ленинскому» определению понятия «типическое», «типичность». «Типичность, – заявил Маленков, – соответствует сущности данного социально-исторического явления, а не просто является наиболее распространенным, часто повторяющимся, обыденным» (Там же.).
Критик и литературовед В. Ермилов во втором издании своей книги о Гоголе поспешил отметить, что высказывания Маленкова о типическом имеют ценность первостепенного научного открытия: «Для решения многих важнейших вопросов марксистско-ленинской эстетики, теории социалистического реализма важнейшее значение имеют замечательные по своей новизне, научной точности, широте взгляда на искусство положения доклада тов. Г. М. Маленкова о соотношении между типичностью и преувеличением, заострением художественного образа… Положения доклада тов. Г. М. Маленкова зовут художника к творческой смелости, широте, богатству, многообразию художественных способов проникновения в сущность нашей действительности, художественных форм и средств выражения типического» (Ермилов В. Н. В. Гоголь. 2-е изд., доп. М., 1953. С. 437.).
Однако другие литературоведы, обратившись к той же проблеме, с некоторым смущением обнаружили, что определение Маленкова почти полностью совпадает с тем, которое было дано в первом издании «Литературной энциклопедии» в статье «Тип», подписанной псевдонимом П. Михайлов (в действительности она принадлежала перу литератора Д. Святополк-Мирского, репрессированного в конце 30-х годов и погибшего в лагерях).
XIX съезд избрал новый состав ЦК ВКП(б), список которого был подготовлен Секретариатом ЦК и одобрен Сталиным. Неожиданными стали, однако, итоги первого Пленума нового ЦК, на котором следовало избрать руководящие органы Центрального Комитета. Открыв Пленум, Сталин предложил избрать не Политбюро, а Президиум ЦК, как это было определено теперь новым Уставом. Сам Сталин зачитал и список нового Президиума ЦК из 25 членов и 11 кандидатов. В списке оказались люди, которые никогда не входили в окружение Сталина, а с некоторыми из них он даже не встречался. Предложение Сталина было одобрено, хотя и вызвало недоумение у многих членов недавнего Политбюро. Хрущев писал по этому поводу в своих воспоминаниях:
«Он (Сталин. – Р. М.) не мог бы этот список сам составить. Кто-то ему составил. Я, признаться, подозревал, что это сделал Маленков, но скрывает, нам не говорит. Я потом его так, по-дружески допрашивал. Я говорю, слушай, я думаю, что ты приложил руку… Он говорит, я тебя заверяю, что я абсолютно никакого участия не принимал. Сталин меня не привлекал и никаких поручений не давал, и я, следовательно, никаких предложений не готовил. Ну, тогда мы еще больше удивились…» (Хрущев Н. С. Воспоминания. Избранные отрывки. С. 103-104.)
Было избрано также Бюро Президиума из 9 человек. Но из этого Бюро Сталин уже после Пленума избрал «пятерку» для руководства партией. В нее вошли: Сталин, Маленков, Берия, Хрущев и Булганин. Был избран и Секретариат ЦК из 10 человек, ведущую роль в котором должен был играть Маленков.
Первый человек в партии
Вопрос о преемнике Сталина возник сразу же после того, как члены высшего руководства страны узнали о его безнадежном состоянии. У постели умирающего вождя между ближайшими его соратниками происходили осторожные переговоры о распределении власти. Маленков разговаривал об этом с Берией, а Хрущев с Булганиным. В сущности, все были согласны с тем, что именно Маленков должен будет занять наиболее важный в то время пост Председателя Совета Министров СССР. Это предложение внес Берия, Хрущев и Булганин согласились с ним. Однако одновременно было решено освободить Маленкова от обязанностей секретаря ЦК КПСС и сформировать более узкий Секретариат из пяти человек: С. Д. Игнатьева, П. Н. Поспелова, М. А. Суслова, Н. С. Хрущева и Н. Н. Шаталина. Никто из этих пяти человек не считался «первым секретарем», только Хрущев был членом нового, более узкого Президиума ЦК, и поэтому он председательствовал на заседаниях Секретариата. Тем не менее именно Маленков в первые месяцы после смерти Сталина оказался первым лицом не только в руководстве государственным аппаратом, но и в партии. Он председательствовал на заседаниях Президиума ЦК, с ним нужно было согласовывать все решения директивного характера.
На похоронах Сталина Маленков первым произнес краткую речь. По форме она напоминала известную «Клятву» Сталина, то есть его речь от 26 января 1924 года на II Всесоюзном съезде Советов. Только вместо повторяемых Сталиным слов: «Клянемся тебе, товарищ Ленин», – Маленков повторял слова: «Наша священная обязанность состоит в том…»
В «Правде» появилась фотография, на которой были изображены Сталин, Мао Цзэдун и Маленков. Все остальные политики, стоявшие рядом, были удалены умелым ретушером. Сталин, Мао Цзэдун и Маленков были запечатлены во время подписания советско-китайского договора о дружбе и взаимной помощи 14 февраля 1950 года. Это была фальсификация. Дело в том, что эти государственные деятели никогда не фотографировались вместе. Подобный монтаж имел очевидную цель – возвеличить, укрепить авторитет нового советского лидера. На фотографии Сталин и Мао Цзэдун словно внимательно слушали Маленкова…
Маленков предпринимал шаги для своего продвижения к вершине власти, и в первое время после смерти Сталина его слово по всем важнейшим вопросам оставалось решающим. И он же занял достаточно активную позицию в деле критики культа личности. На заседание Президиума ЦК КПСС 10 марта 1953 года, проходившее под председательством Маленкова, были вызваны «идеологи» П. Н. Поспелов, М. А. Суслов, главный редактор «Правды» Д. Т. Шепилов. Как вспоминал Поспелов, в ходе заседания Маленков подверг редакцию газеты резкой критике, заметив, что природа многих ненормальностей, имевших место в истории советского общества, крылась в культе личности. Подчеркнув, что перед страной стоят задачи углубления процесса социалистического строительства, Маленков отметил: «Считаем обязательным прекратить политику культа личности» (См.: Опенкин Л. А. На историческом перепутье // Вопросы истории КПСС.1990. № 1. С. 110.).
Разумеется, перед Маленковым после смерти Сталина возникло много сложных проблем. Он не мог, да и не хотел решать их единолично. Но и как позволить, чтобы кто-либо из членов Президиума ЦК взял бы на себя решение важных политических и организационных вопросов? На этой почве у Маленкова стали возникать конфликты с Берией, который произвел ряд важных перестановок в МВД – МГБ и стал вести себя так, как будто он заранее был уверен в одобрении Маленковым всех своих действий. Маленков считался другом Берии, но он не собирался быть пешкой в его руках. Это и привело к разрыву их политической дружбы и к тайному сговору с Хрущевым, в результате которого Берия был смещен и арестован.
Летом 1953 года Маленков выступил на сессии Верховного Совета СССР с важными предложениями по экономическим проблемам. Одним из них было значительное снижение налогов с крестьянства и аннулирование всех прежних долгов колхозов и колхозников. Маленков также сказал, что отныне партия может больше уделять внимания развитию промышленности группы Б, то есть предметов потребления. По мнению Маленкова, темпы развития производства средств производства могут быть несколько сокращены, а высвободившиеся фонды направлены на выпуск нужных населению потребительских товаров. Эти предложения надолго обеспечили Маленкову популярность среди населения и особенно среди крестьянства, ибо деревня впервые за много лет почувствовала некоторое облегчение. Среди простых людей появился и упорно держался слух, что Маленков – «племянник» или даже «приемный сын» В. И. Ленина. Главным основанием для подобной легенды было, вероятно, то обстоятельство, что мать Маленкова носила фамилию Ульянова. Она работала в первой половине 50-х годов директором санатория на станции Удельная Казанской железной дороги. Помогала освобождению многих незаконно репрессированных людей, пока сын не сказал ей, чтобы она не вмешивалась не в свои дела.
Маленков работал много, но держался уже тогда не только скромно, но и замкнуто. Он был недоступен даже для весьма ответственных работников; например, председатель КГБ И. А. Серов часто не мог подолгу попасть к нему на прием. Маленков крайне нетерпимо относился к пьянству, которое в последние годы правления Сталина стало обычным явлением в верхах партии. Воспоминания о пьянках у Сталина, видимо, вызывали отвращение у Маленкова. По его распоряжению были закрыты многие пивные и распивочные, что привело вскоре к славной традиции распивать «на троих» в подворотнях и подъездах. Несколько раз Маленков встречался и беседовал с видными экономистами, одного из которых он попросил внести «любые предложения», которые могли бы улучшить положение в экономике. Одновременно Маленков пытался укрепиться в руководстве страны, предполагая провести для этой цели некоторые перемещения. Так, например, у него сложились очень плохие отношения с Сусловым и соответственно с его близким другом – первым секретарем ЦК КП Литвы А. Ю. Снечкусом, которого Маленков хотел заменить другим руководителем. В Литву была направлена специальная комиссия ЦК партии, возглавляемая ответственным работником аппарата ЦК Ю. В. Андроповым. Однако комиссия не нашла достаточных оснований для того, чтобы признать работу партийного руководства Литвы неудовлетворительной. На заседании Политбюро доклад комиссии получил одобрение, как и выступление самого Снечкуса. Маленков не решился в этих условиях выдвинуть свое предложение о снятии Снечкуса. После заседания Маленков подошел к Андропову, взял его за локоть и тихо сказал: «Я тебе этого никогда не прощу» (Это и некоторые другие утверждения автора оспаривает сын Г. М. Маленкова. См.: Горизонт. 1988. № 12. С. 16.). И действительно, Андропов был вскоре освобожден от работы в аппарате ЦК и направлен послом в Венгрию. Он вернулся в ЦК уже в 1957 году.
Интеллигенция в отличие от крестьянства, которое, конечно же, ничего не знало о всей прежней деятельности Маленкова, относилась к нему с недоверием или даже с неприязнью. В стихотворении «О России», отражая эти настроения, поэт Наум Коржавин тогда писал:
В тяжелом, мутном взгляде Маленкова Неужто нынче вся твоя судьба?…
Однако дипломаты по-прежнему гораздо больше симпатизировали Маленкову, чем энергичному и грубоватому Хрущеву, который нередко шокировал их своими вопросами и поведением. Американский посол Чарльз Болен писал в своих воспоминаниях:
«Впервые я встретил Маленкова на кремлевском банкете во время войны, но у меня не было случая поговорить с ним. Всегда казалось, что он незаметно стоит на заднем плане. В этот период он производил впечатление робота, самый зловещий прототип Сталина, с крупным, мрачным, почти садистским лицом, с челкой черных волос на лбу, с неуклюжей полной фигурой и репутацией злодея во время чисток тридцатых годов. Хотя, конечно, все сталинские помощники, включая Хрущева, приложили руку к этим чисткам. Избежать этого было невозможно.
Но в бытность мою послом я значительно улучшил мнение о Маленкове, чему способствовали наши встречи на кремлевских банкетах. Его лицо становилось очень выразительным, когда он говорил. Улыбка наготове, искры смеха в глазах и веснушки на носу делали его внешность обаятельной… Его русский язык был самым лучшим из тех, что я слышал из уст советских лидеров. Слушать его выступления было удовольствием. Речи Маленкова были хорошо построены, и в них видна была логика. Представлялся он негромким, немного высоким голосом, и акцент указывал на образованность этого человека… Более важно то, что Маленков мыслил, на мой взгляд, в наибольшей по сравнению с другими советскими вождями степени на западный манер. Он, по крайней мере, разбирался в нашей позиции, и хотя он ее не принимал, но все же, я чувствовал, понимал ее. С другими лидерами, особенно с Хрущевым, не было никаких точек соприкосновения, никакого общего языка…» (Bohlen С. Witness to History, P. 369-370.)
Ослабление власти и влияния Маленкова
Удаление Берии косвенным образом привело сразу же к ослаблению власти и влияния Маленкова: исчез из руководства важный союзник. Между тем ни Молотов, ни Каганович, ни Ворошилов, ни Микоян не питали никаких симпатий к Маленкову и были склонны поддерживать более простого и откровенного Хрущева. Многие обвинения, которые выдвигались Прокуратурой СССР против Берии, задевали и Маленкова. Это в первую очередь касалось «ленинградского дела». К тому же сам Берия, находясь под следствием, пытался писать Маленкову различные записки, что вынуждало последнего как-то оправдываться перед другими членами Политбюро. Сказывался и тот простой факт, что Маленков, привыкший быть на вторых ролях при Сталине, не обладал достаточно твердым характером, чтобы теперь играть в партии первую роль. Он опасался принимать важные решения, проявляя колебания и неуверенность. Сталкиваясь с возражениями, он не мог настоять на своем. Пребывание в партийном аппарате не могло выработать у Маленкова тех качеств, которые у Хрущева развились благодаря десятилетней самостоятельной работе на Украине. К тому же Маленков, как оказалось, не слишком хорошо знал проблемы и состояние народного хозяйства, и особенно сельского. Маленков даже не претендовал на руководство сельским хозяйством и с облегчением передал подготовку всех основных реформ в этой области Хрущеву, который не только фактически, но и формально возглавил Секретариат ЦК, став Первым секретарем.
Арест Берии и суд над ним, закончившийся вынесением смертного приговора, сопровождались изменениями всего персонального состава карательных органов, во главе которых был поставлен ближайший сторонник Хрущева генерал Серов. Одновременно функции МВД – МГБ были значительно урезаны, в их задачу теперь не входил контроль за деятельностью партийных органов, а, напротив, МВД – МГБ были поставлены под твердый контроль ЦК КПСС, и прежде всего Секретариата ЦК, то есть Хрущева. Маленков уже не мог использовать, подобно Сталину, карательные органы в качестве опоры своей власти.
Эти факторы к осени 1953 года значительно ослабили роль Маленкова. Высший партийный аппарат все увереннее и прочнее брал под свой контроль государственные и общественные организации, а первым человеком в партии был теперь уже не Маленков, а Хрущев. Без одобрения Хрущева не принимались никакие важные решения и назначения. В 1954 году казалось, что только Хрущев знает, что надо делать, дабы громоздкий корабль советского управления двигался вперед. Именно Хрущев выдвигал большую часть важных предложений во внутренней и внешней политике. Маленков просто не поспевал за своим энергичным и деятельным соратником. А главное, у него не было сторонников в руководстве, которые бы видели в нем своего шефа и покровителя, были бы обязаны ему своим выдвижением и готовы без оговорок выполнять его указания. В этих условиях вопрос о смещении Маленкова с поста главы правительства становился лишь вопросом времени. Когда началась реабилитация всех пострадавших по «ленинградскому делу», а также более отчетливо выявилась ответственность Маленкова за плохое состояние сельского хозяйства, тяжелый кризис которого скрывался фальсифицированными данными, Маленков не стал даже бороться за сохранение своей власти и ведущего положения в партийно-государственной верхушке. 24 января 1955 года в «Правде» была опубликована статья Д. Т. Шепилова «Генеральная линия партии и вульгаризаторы марксизма», в которой содержались критические замечания о Маленкове. И хотя фамилия последнего не упоминалась, адресат этих обвинений легко прочитывался.
На следующий день, 25 января, Пленум ЦК принял решение освободить Маленкова от обязанностей главы правительства. Было зачитано его заявление с признанием своих ошибок и ответственности за плохое состояние сельского хозяйства. Маленков ссылался в последнем случае на свою «малоопытность». На Пленуме с критикой Маленкова выступили некоторые из членов ЦК и Президиума ЦК, в числе которых был и Молотов. Однако критика была не слишком резкой. Через несколько дней стенограмма январского Пленума была зачитана во всех партийных организациях. Вскоре решения Пленума формально одобрил Президиум Верховного Совета СССР, который назначил Маленкова министром электростанций СССР.
В день Пленума ЦК многие родные и близкие Маленкова собрались у него в особняке. Такие особняки в районе Мосфильмовских улиц были только недавно построены для членов Политбюро по инициативе самого Маленкова. Все были обеспокоены и ждали хозяина дома. Он приехал очень поздно. Войдя в гостиную и увидев родных и близких, Маленков с явным облегчением сказал: «Все остается по-старому». Его сразу поняли. Никто не ждал, что Маленков и дальше будет главой правительства. «Остается по-старому» означало, что Маленков продолжает быть членом Президиума ЦК, что он будет не только министром, но и одним из заместителей Председателя Совета Министров СССР. А это, в свою очередь, подтверждало все прежние привилегии: что он будет жить в том же особняке и что он и его ближайшие родственники будут пользоваться тем же спецобслуживанием.
Было бы, однако, неверным думать, что Маленков столь легко смирился с происшедшими переменами. Внешне он сохранил с Хрущевым самые лучшие отношения, бывал даже на всех его семейных праздниках, делал подарки его родственникам. Но при этом Маленков мечтал о возвращении власти. По свидетельству Эдварда Кренкшоу, который встречался и беседовал с Маленковым в Англии в конце 1956 года, Маленков, обычно очень молчаливый (а тем более с иностранцами), неожиданно и со злостью заявил: «Я еще вернусь».
В антипартийной группе
Вместо Маленкова Председателем Совмина СССР был назначен Н. А. Булганин.
Может быть, Маленков и удовлетворился бы своей более скромной ролью, но политика дальнейшего развенчания культа личности Сталина и более глубокого и основательного расследования его преступлений, которую проводил Хрущев, пугала Маленкова. Он высказывался против постановки этих проблем на XX съезде партии, но не смог помешать Хрущеву прочесть свой знаменитый доклад. Сам Маленков, выступая на съезде, сказал всего лишь несколько фраз о вреде «культа личности», что это извращение неизбежно ведет к принижению роли партии и ее руководящего центра, к подавлению творческой активности партийных масс, к безапелляционности единоличных решений, произволу. Основную же часть своей речи он посвятил проблемам электрификации СССР.
Разоблачение культа Сталина неизбежно ставило вопрос и об ответственности Маленкова, так же как и других приближенных вождя, за репрессии и гибель ни в чем не повинных людей, среди которых было немало выдающихся деятелей партии и государства. Правда, в 1956 году были реабилитированы далеко не все незаконно репрессированные люди. Уже в 1957 году Хрущев настоял на реабилитации большой группы военных деятелей во главе с Тухачевским и Якиром, арест и расстрел которых был санкционирован в 1937 году Политбюро (сам Хрущев в это время еще не входил в Политбюро). Было начато расследование, берущее под сомнение законность и обоснованность приговоров по таким фальсифицированным политическим процессам 30-х годов, как процессы Зиновьева – Каменева, Радека – Пятакова, Бухарина – Рыкова, в результате которых были приговорены к расстрелу десятки виднейших соратников Ленина, деятелей Октябрьской революции и Гражданской войны. Все это переполнило чашу терпения большинства членов Президиума ЦК. Их объединил страх ответственности. Организаторами фракционной группы были Молотов и Каганович, но к ним сразу же присоединился и Маленков. Поражение этой группы было концом политической и государственной карьеры Маленкова. Он был исключен из Президиума ЦК и из ЦК КПСС и снят с ответственной работы в Совете Министров СССР.
Маленкова назначили директором Усть-Каменогорской ГЭС, построенной в верхнем течении Иртыша. Вскоре его перевели директором Экибастузской ГРЭС. Так же как и Каганович, Маленков был весьма либеральным директором, и ему однажды обком партии объявил выговор «за панибратство с рабочими».
В 1961 году после XXII съезда КПСС он был исключен из партии. На съезде говорили о преступлениях Маленкова, о его близости к Ежову и Берии и о многом другом. Он мог считать, что еще слишком легко отделался.
После XXII съезда КПСС Маленкову и Кагановичу все еще не позволяли вернуться в Москву. Каганович получил такое разрешение только в 1965 году, а Маленков – в 1968-м, после выхода на пенсию.
Маленков на пенсии
Переход из мира власти и привилегий, крайне замкнутого и в значительной мере секретного, в общий мир со всеми его трудностями и проблемами был крайне тяжел для всех, кого удаляли от власти. Но особенно он был невыносим для чопорного и не приспособленного к обычной жизни Маленкова, уже с молодости оказавшегося в советских «коридорах власти». Без поддержки своей жены Валерии Алексеевны, которая как личность оказалась сильнее и умнее своего мужа, Маленкову было бы совсем трудно. Он и раньше не отличался особой общительностью. Он не предлагал журналам своих мемуаров, не занимался в читальных залах московских библиотек. Можно предположить поэтому, что он решил не писать своих воспоминаний.
Маленков, как утверждает его сын, большую часть года проводил в доме своей матери в поселке Удельная под Москвой. Раньше он ездил по Москве и ее пригородам только в бронированном лимузине. Теперь же приходилось брать билеты на обычную электричку. В пути он молчал, иногда перебрасывался замечаниями с женой. Маленков сильно похудел, и поэтому его не всегда узнавали даже сверстники. Ежегодно летом Маленков отдыхал и лечился в привилегированных санаториях.
Однажды Маленков случайно встретился со старым большевиком Ю. Фридманом. «А ведь я, Георгий Максимилианович, именно благодаря вам провел пятнадцать лет в лагерях», – сказал Фридман. «Я ничего об этом не знал раньше», – ответил Маленков. «Но я же сам видел вашу подпись на моем деле», – возразил Фридман. Маленков, не желая продолжать разговор, быстро отошел в сторону.
Несколько раз в течение последних двадцати лет Маленков посещал по каким-то своим делам Министерство электростанций СССР. Кроме дочери, у него два сына, оба они ученые, доктора наук. О них я слышал только хорошие отзывы.
Необщительность и чопорность Маленкова скрывали не столько значительность, сколько посредственность его личности. Его преступления не будут забыты, сколь бы усердно он их ни отмаливал, пока был жив.
Маленков умер в январе 1988 года в возрасте 86 лет. О его смерти наша печать ничего не сообщала в отличие от смерти Молотова. Отставного премьера похоронили узким семейным кругом на Кунцевском кладбище, и здесь не было ни одного западного корреспондента, они узнали о смерти Маленкова только через две недели. Все же большинство газет западных стран, пусть и с опозданием, подробно комментировали смерть несостоявшегося «наследника» Сталина. Мне трудно говорить о Маленкове как о талантливом государственном деятеле, способности которого были лишь деформированы или погублены страшной эпохой сталинизма. Нет, он был человеком вполне адекватным своей эпохе, которая находила и выдвигала таких людей.
Его называли "сталинским ишаком" и "тараном революции", он поднял промышленность СССР до невиданных высот и выступал против Берии.
Фельдшер
Серго Орджоникидзе был единственным из "старой ленинской когорты", кто работал врачом. Он закончил церковно-приходскую и фельдшерскую школы. При этом свою работу он выполнял в полном соответствии с клятвой Гиппократа. Даже во время якутской ссылки, в непростых условиях крайнего Севера, он честно работал фельдшером, но не забывал и об агитационной деятельности. Ещё в начале своей карьеры, будучи фельдшером в Грузии, Орджоникидзе печатал и распространял довольно странные "рецепты". Вместо списка лекарств и рекомендаций листовки содержали в себе революционные лозунги и призывы в свержению царя.
"Прямой"
В жандармских сводках за Серго Орджоникидзе закрепилось прозвище "прямой". Его несгибаемости можно позавидовать. Он прошел через ссылки и тюрьмы. Из ссылок Орджоникидзе бежал, в страшной Шлиссельбургской тюрьме (где серьезно подорвал здоровье) самостоятельно выучил немецкий язык. Он всегда лез на рожон и был одним из самых непримиримых противников царизма. Борьба была для него самой органичной средой, в ней он развивался, в ней формировался его характер.
Кризис-менеджер
Орджоникидзе был, выражаясь современным языком, эффективным кризис-менеджером. Его всегда отправляли на передовую, в самые горячие точки. Он участвовал в иранской революции, был чрезвычайным комиссаром по Украине, руководил революцией на Кавказе. Когда Орджоникидзе занимался депортацией терских казаков, Сталин предупредил товарища: "Серго, они тебя зарэжут". Не зарезали, хотя в своих методах Орджоникидзе не признавал полумер. Его вера в дело революции была незыблема. Люди это видели и шли за Серго.
Конфликт с земляками
Орджоникидзе был одним из тех, кто участвовал в создании Советского Союза. Процесс создания нового государства был проблемным. Ленин боялся шовинизма и национальных распрей, поэтому был противником того, чтобы новое государство образовывалось под эгидой России. 20 октября 1922 между Орджоникидзе и грузинскими лидерами разразился скандал. Член ЦК КП(б) Кабахидзе оскорбил Орджоникидзе, назвав его «сталинским ишаком», за что получил по лицу. Конфликт пришлось разбирать ЦК РКП(б). Ленин, который в октябре 1922 был болен, не мог вмешаться в конфликт, а Сталин назначил в Грузию комиссию во главе с Дзержинским, который поддержал Орджоникидзе и осудил грузинских «националистов». В декабре 1922 года Ленин все же вмешался в грузинский конфликт и даже предложил исключить Орджоникидзе из партии за рукоприкладство, но Ленин был "уже не тот" и распоряжение выполнено не было.
Друг Сталина
Орджоникидзе был одним из немногих, кто общался со Сталиным "на ты". Познакомились они в 1907 году в камере № 3 Баиловской тюрьмы в Баку. С тех пор у них установились почти дружеские отношения. Об этом говорит тот факт, что после самоубийства Надежды Аллилуевой именно Орджоникидзе и Киров, на правах ближайших друзей, провели ночь в доме Сталина. Орджоникидзе был верен Сталину даже тогда, когда пришлось идти на конфронтацию с Лениным, но их отношения серьезно ухудшились в начале 30-х годов. Сначала Сталин начал проводить чистки ставленников Орджоникидзе, затем Берия, которого Орджоникидзе недолюбливал (мягко скажем), стал претендовать на первую роль в Закавказской партийной организации. Финальная стадия конфликта началась в 1936 году, когда был арестован старший брат Орджоникидзе Папулия. Известие об аресте брата Орджоникидзе получил в Кисловодске в октябре 1936 года, в день своего 50-летия. Крепко обидевшись, он не пошел на торжества, устроенные по случаю юбилея.
Микоян вспоминал, как за несколько дней до смерти Орджоникидзе поделился с ним своими тревогами: "Не понимаю, почему мне Сталин не доверяет. Я ему абсолютно верен, не хочу с ним драться, хочу поддержать его, а он мне не доверяет. Здесь большую роль играют интриги Берии, который дает Сталину неправильную информацию, а Сталин ему верит". Интересный факт: после войны Сталину предоставили на утверждение список видных партийных деятелей, в честь которых в Москве намечалось установить памятники. Вождь из всего списка вычеркнул только одну фамилию - Орджоникидзе.
"Командарм тяжелой индустрии"
Орджоникидзе был сильнейшим организатором. Его называли командармом тяжелой индустрии. Он быстрыми темпами поднял промышленность Советского Союза, боролся с бюрократией, стоял во главе "великих строек". По валовой промышленности продукции СССР уже в 1932 году вышел на второе место в мире и на первое место в Европе. С пятнадцатого места в мире и с седьмого в Европе по электроэнергии СССР в 1935 году соответственно вышел на третье и второе место. Орджоникидзе делал все возможное, чтобы страна перестала закупать трактора и другую технику за рубежом. Если говорят, что Сталин принял страну с сохой, а оставил с атомным оружием, то огромная заслуга в этом принадлежит именно Орджоникидзе.
Тайна смерти
Официальная причина смерти Орджоникидзе, преподнесенная Сталиным, - "сердце не выдержало". По этой версии, долгое время считавшейся основной, Орджоникидзе внезапно скончался от паралича сердца во время дневного сна. Смущает в этой версии два факта: во-первых, вскоре все, кто подписывал это заявление, были расстреляны, во-вторых, жена Орджоникидзе рассказывала, как Сталин, покидая квартиру покойного, грубо предупредил её: "Никому ни слова о подробностях смерти Серго, ничего, кроме официального сообщения, ты ведь меня знаешь...". Кроме официальной версии существует ещё три: отравление, убийство, самоубийство. Все версии имеют право на существование, но ни одна до сих пор не признана. Тело Орджоникидзе было кремировано, поэтому "вскрытие покажет" - не про тайну этой смерти.
80 лет назад, 1 декабря 1934 года, в одном из коридоров Смольного прозвучали выстрелы. От руки неудачника-неврастеника погиб член Политбюро ЦК ВКП(б), первый секретарь Ленинградского обкома партии Сергей Киров (Костриков), которого уже тогда многие прочили в преемники Сталина. Преступление раскрыли только через три года.
«Эх, огурчики-помидорчики! Сталин Кирова убил в коридорчике», — эта частушка появилась уже на следующий день после убийства. Но в данном случае мы имеем дело не с обезличенным «народным творчеством», у пасквиля есть конкретный автор. Стишок написал Николай Бухарин. Вот только реальные факты противоречат версии «сталинского заговора»...
Узнав о гибели Кирова, Сталин тотчас отправился в северную столицу. «Знакомы они были очень давно и по-настоящему дружили, это была дружба по жизни. Чувствовалась теплота в их личных отношениях — они были единомышленниками и друзьями прежде всего. Это можно понять, если какое-то время наблюдать людей, а мне пришлось наблюдать их с конца 1929 года и почти до последнего дня жизни Кирова», — вспоминал приемный сын Сталина Артем Сергеев.
В разговоре с вождем убийца — безработный алкоголик Леонид Николаев — страшно путался в показаниях. И наконец, сообщил, что его «заставили убить Кирова». Признался, что состоит в подпольной питерской антисоветской организации, которая и поручила убить партийного лидера. Но кто ему помогал? Сталин тут же захотел поговорить с охранником Сергея Мироновича, оперкомиссаром Михаилом Борисовым, который был обязан провожать того непосредственно до самого кабинета, но отчего-то в день трагедии не проводил.
«От здания ленинградского управления НКВД до Смольного два с половиной километра по прямой. Арестованного сопровождали чекисты Виноградов и Малий. Впоследствии они показали, что машина внезапно потеряла управление и ударилась о стенку дома. Борисов, который сидел в кузове, якобы выпал и получил травму головы. Его доставили в Николаевский военный госпиталь, где тот, не приходя в сознание, скончался», — рассказывает историк Игорь Пыхалов. В итоге Сталину пришлось довольствоваться лишь тем, что ему рассказали товарищи из местного НКВД. То есть информацией о некоем местечковом заговоре.
Здесь, пожалуй, стоит сделать отступление, чтобы сказать пару слов о руководстве этой всесильной организации (наследнице ВЧК и ОГПУ), которую принято считать «глазами и ушами» Сталина. Генеральным комиссаром на тот момент числился Генрих Ягода (он же Енох Гершонович Иегуда). Его предшественниками были два поляка — «железный Феликс» Дзержинский и Вячеслав Менжинский. Оба — пламенные революционеры, кристально чистые люди. И оба умерли при более чем загадочных обстоятельствах. Основатель ВЧК, как сказал на его похоронах Сталин, «сгорел на работе». В день смерти Феликс Эдмундович жестко сцепился с двумя партийными функционерами — Пятаковым и Каменевым. Чекист обвинил их в дезорганизации экономики, по сути, в диверсиях против Советской власти. И тут же «сыграл в ящик». Осторожный Менжинский предпочитал ни с кем в открытую не ссориться. Наверное, именно поэтому ему удалось протянуть на своем посту аж восемь лет. Но причиной смерти опять стала «болезнь». И лишь в конце 30-х было установлено, по чьей вине глава ОГПУ отправился в мир иной.

Сам Генрих Ягода — чекист со стажем, в «органах» с начала 20-х. А в конце того же десятилетия первый заместитель Менжинского де-факто становится главой организации. Как в будущем установит следствие, Вячеслава Рудольфовича потихоньку прикармливали ядом. Но до смерти не травили — он требовался как «зиц-председатель» ОГПУ, которым всегда можно прикрыться. Между тем от власти в «конторе» его давно отстранили. Хотя он об этом и не догадывался, даже проводил рабочие совещания, лежа на больничной койке.
Итогом деятельности Еноха Гершоновича стал более чем странный состав ОГПУ, а потом и НКВД. Предпочтение отдавалось «раскаявшимся»: троцкистам и иным бывшим оппозиционерам — эсерам, меньшевикам... Эти люди превратили Лубянку в совершенно неподконтрольную власти организацию. Какие уж тут «глаза и уши» Сталина...
Во главе территориальных подразделений НКВД встали люди, верные Ягоде. Так, в Ленинграде «органы» возглавил Иван Запорожец — националист, бывший член Украинской партии социалистов-революционеров (УПСР). Естественно, тоже «раскаявшийся» — большевик с 1920 года. В 1934-м Запорожец симулировал болезнь, во время убийства Кирова он валялся в постели. «По сути, в 1934 году никакого расследования не было. Ведь следствие вели сами преступники. А Сталин им доверял. Вопреки многочисленным легендам о подозрительности вождя Иосиф Виссарионович до последнего не сомневался в своих соратниках. И когда через три года Ягоду все-таки арестовали, вождь даже направил в суд письмо в его защиту», — говорит историк и писатель Сергей Кремлев.
Убийство Кирова было раскрыто только в 37-м. Вслед за Запорожцем к стенке поставили и Генриха Ягоду, который оказался не только одним из руководителей троцкистского подполья, но и вором, а также развратником. В его квартире при обыске, помимо крупных сумм «неучтенной» валюты, большого количества золота и драгоценностей, следователи обнаружили коллекцию порнографии, а также фаллоимитатор. Были установлены и половые партнеры обер-чекиста.
 Сергей Миронович — первая и не последняя жертва троцкистов. В 1936 году они же убили великого пролетарского писателя Максима Горького. Его сын Максим Пешков погиб от рук отравителей даже раньше, в мае 34-го. На судебном процессе Ягода пытался оправдаться, что был влюблен в его жену, потому, из ревности, и отправил молодого еще человека на тот свет. Исполнителем многочисленных отравлений оказался личный врач наркома госбезопасности Лев Левин, настоящий убийца в белом халате.
Сергей Миронович — первая и не последняя жертва троцкистов. В 1936 году они же убили великого пролетарского писателя Максима Горького. Его сын Максим Пешков погиб от рук отравителей даже раньше, в мае 34-го. На судебном процессе Ягода пытался оправдаться, что был влюблен в его жену, потому, из ревности, и отправил молодого еще человека на тот свет. Исполнителем многочисленных отравлений оказался личный врач наркома госбезопасности Лев Левин, настоящий убийца в белом халате.
Дзержинский, Менжинский, есть подозрение, что и Михаил Фрунзе, Валериан Куйбышев, Владимир Маяковский — список странных смертей в конце 20-х — начале 30-х очень велик. Не все понятно и с самоубийством Надежды Аллилуевой (1932 год) — супруги вождя. Уничтожались видные партийные и хозяйственные работники, патриотично настроенные деятели культуры, военачальники.
В свое время лично Дзержинский приложил немало сил, чтобы в Россию вернулся Яков Слащев — генерал-лейтенант царской армии, по оценкам современников, наиболее одаренный отечественный полководец. Власти «забыли» про его участие в Белом движении, гениальный военачальник стал преподавателем Высшей тактическо-стрелковой школы командного состава РККА им. Коминтерна «Выстрел». Более того, он неоднократно выступал с призывами к белым офицерам возвращаться в страну и вступать в Красную Армию. В 29-м бесстрашного генерала убивают, дело расследует ОГПУ. И спускает все на тормозах — стрелявшего в военачальника Лазаря Коленберга объявляют невменяемым и освобождают.
Страну явно собирались обескровить, оставить без руководства — военного, политического, советского и хозяйственного. Пришлось действовать оперативно и не очень корректно. «К сожалению, немалая доля командиров, подвергшихся в те годы политическим преследованиям, пострадала безвинно. Большинство из них вскоре были оправданы и восстановлены в армии. С другой стороны, опасность, созданная для государства военными заговорщиками во главе с Тухачевским, была слишком велика, что и объясняет допущенные «перегибы» при ликвидации заговора», — считает Игорь Пыхалов.
 Переворот должен был состояться в начале мая 37-го, путч готовила группа военных под руководством Михаила Тухачевского. Его обеспечение — многие другие. «Если внимательно вчитаться в стенограмму процесса Бухарина – Рыкова — ее как раз недавно переиздали, причем в полном объеме, — вас ждут очень интересные открытия. И не только по вопросу виновности фигурантов дела. Станет понятна общая ситуация в СССР конца 30-х. Все ветви оппозиции — и троцкисты, и «правые», и военные — объединили свои усилия. Целью стало свержение Советской власти, поэтому они и отложили межфракционные разборки на будущее, когда победят», — объясняет Сергей Кремлев. Хотя верховодили все-таки троцкисты: «демон революции», тесно связанный (в том числе родственными узами) с мировым банковским капиталом, продолжал свою деструктивную антироссийскую деятельность.
Переворот должен был состояться в начале мая 37-го, путч готовила группа военных под руководством Михаила Тухачевского. Его обеспечение — многие другие. «Если внимательно вчитаться в стенограмму процесса Бухарина – Рыкова — ее как раз недавно переиздали, причем в полном объеме, — вас ждут очень интересные открытия. И не только по вопросу виновности фигурантов дела. Станет понятна общая ситуация в СССР конца 30-х. Все ветви оппозиции — и троцкисты, и «правые», и военные — объединили свои усилия. Целью стало свержение Советской власти, поэтому они и отложили межфракционные разборки на будущее, когда победят», — объясняет Сергей Кремлев. Хотя верховодили все-таки троцкисты: «демон революции», тесно связанный (в том числе родственными узами) с мировым банковским капиталом, продолжал свою деструктивную антироссийскую деятельность.
Естественно, возникает вполне резонный вопрос — а как при таком уровне опасности удалось выжить самому Сталину? Ведь он, бесспорно, был для врагов целью номер один. Самый очевидный ответ на это таков: благодаря профессионализму и преданности своей охраны, которую возглавлял Николай Власик. При всех пороках, а был он и пьяницей, и бабником, дело свое бывший царский унтер-офицер знал на «отлично». «Основной обязанностью его было обеспечение безопасности Сталина. Труд этот был нечеловеческий. Всегда ответственность головой, всегда жизнь на острие. Он прекрасно знал и друзей, и недругов Сталина. И знал, что его жизнь и жизнь Сталина очень тесно связаны между собой. Не случайно, когда месяца за полтора-два до смерти Сталина Власика вдруг арестовали, он сказал: «Меня арестовали, значит, скоро не будет Сталина». И, действительно, после этого ареста Сталин прожил немного», — это тоже фрагмент из воспоминаний Артема Сергеева.