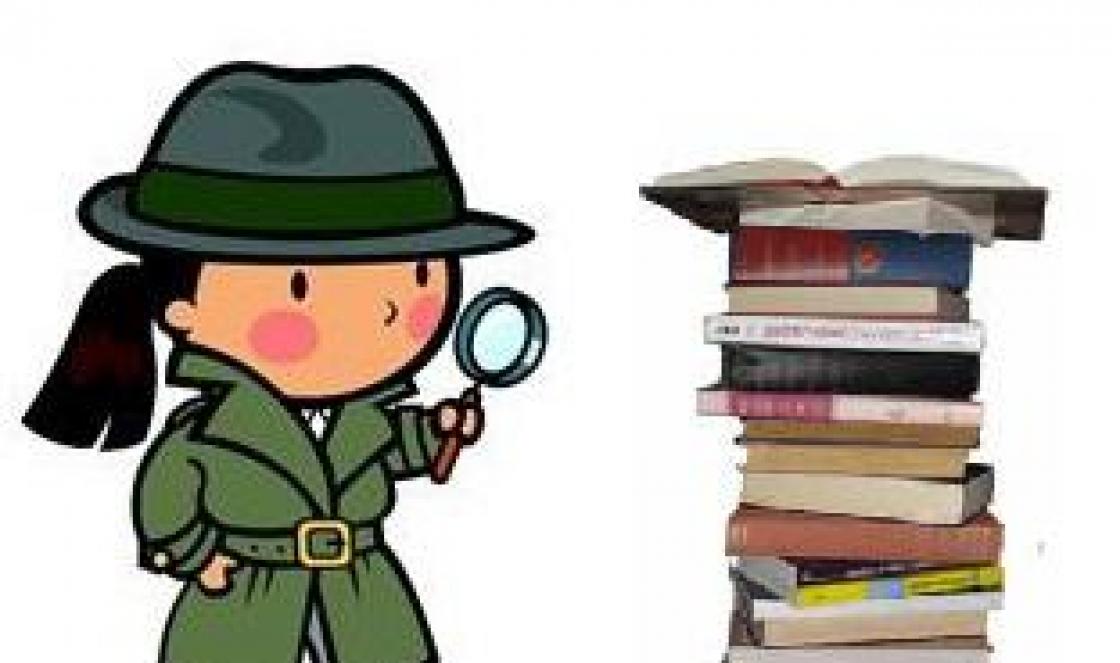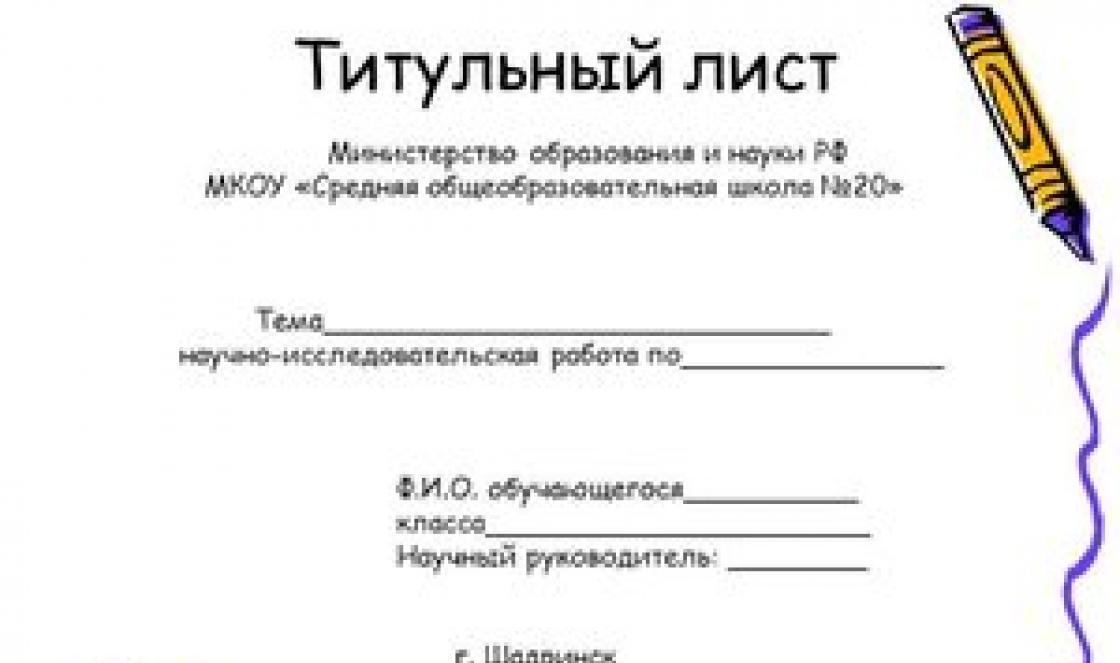Претворяя слово в предмет изображения, литература постигает человека как носителя речи. Персонажи неизменно проявляют себя в словах, произнесенных вслух или про себя.
На ранних этапах словесного искусства (включая средневековье) формы речи персонажей были предопределены требованиями жанра. Речь действующего лица – это речь автора за него. Автор своего рода кукловод. Кукла лишена собственной жизни и собственного голоса. За нее говорит автор своим голосом, своим языком и привычным стилем. Автор как бы переизлагает то, что сказало или могло бы сказать действующее.
От эпохи к эпохе персонажи стали все в большей мере получать речевую характеристику: высказываться в присущей им манере. Это или нескончаемый поток речи, или, напротив, отдельные короткие реплики, а то и полное молчание, порой весьма значимое: молчит Татьяна, выслушивая отповедь Онегина, молчит и Онегин во время ее монолога, завершающего пушкинский роман; молчанием отвечает Пленник на исповедь Великого Инквизитора в «Братьях Карамазовых». Речь изображаемых писателями лиц может быть упорядоченной, отвечающей неким нормам (Чацкий у А. С. Грибоедова «говорит, как пишет») либо сбивчивой, неумелой, хаотичной (косноязычный Башмачкин в «Шинели» Н.В. Гоголя, Аким во «Власти тьмы» Л.Н. Толстого с его повторяющимся «тае»). Способ, манера, характер «говорения» нередко выдвигаются в центр произведения и творчества писателя.
«Говорящий человек» проявляет себя в речи диалогической и монологической. Диалоги и монологи составляют наиболее специфическое звено словесно-художественной образности. Они являются своего рода связующим звеном между миром произведения и его речевой тканью. Рассматриваемые как акты поведения и как средоточие мысли, чувства, воли персонажа, они принадлежат предметному слою произведения; взятые же со стороны словесной ткани, составляют феномен художественной речи.
Диалоги и монологи обладают общим свойством. Это речевые образования, обнаруживающие и подчеркивающие свою субъективную принадлежность, свое «авторство» (индивидуальное и коллективное), так или иначе интонированные, запечатлевающие человеческий голос , что отличает их от документов, инструкций, научных формул и иного рода эмоционально нейтральных, безликих речевых единиц.
Диалог слагается из высказываний разных лиц (как правило, двух) и осуществляет двустороннее общение людей. Здесь участники коммуникации постоянно меняются ролями, становясь на какое-то время (весьма малое) то говорящими (т.е. активными), то слушающими (т.е. пассивными). В ситуации диалога отдельные высказывания возникают мгновенно. Каждая последующая реплика зависит от предыдущей, составляя отклик на нее. Диалог, как правило, осуществляется цепью лаконичных высказываний, именуемых репликами . Когда реплики очень разрастаются, диалог как таковой перестает существовать, распадаясь на ряд монологов. Диалогическая реплика обладает активностью двоякого рода. Она, во-первых, откликается на только что прозвучавшие слова и, во-вторых, адресуясь к собеседнику, ждет от него незамедлительного речевого отклика. Диалоги могут быть ритуально строгими и этикетно упорядоченными. Обмен церемониальными репликами (которые при этом склонны разрастаться, уподобляясь монологам) характерен для исторически ранних обществ и для традиционных фольклорных и литературных жанров.
Но наиболее полно и ярко диалогическая форма речи проявляется в атмосфере непринужденного контакта немногих людей, которые ощущают себя друг другу равными. Иерархическая дистанция между общающимися мешает диалогу. Наиболее благоприятна для диалога устная речь при отсутствии пространственной дистанции между говорящими: реплики здесь значимы не только собственно логическим смыслом, но и эмоциональными оттенками, сказывающимися в интонациях, жестах и мимике, которые сопровождают речь. При этом высказывания в составе диалога нередко оказываются сбивчивыми, грамматически неправильными и аморфными, могут выглядеть «недомолвками», которые, однако, вполне понятны собеседнику. Слушающий нередко перебивает говорящего, вмешиваясь в течение его речи, и это усиливает «сцепленность» между репликами: диалог предстает как сплошной поток речи двух, а иногда и большего числа лиц (речевую коммуникацию, в которой «на равных» участвуют более двух-трех человек, называют полилогом ).
Как неоднократно отмечали лингвисты, диалогическая речь исторически первична по отношению к монологической и составляет своего рода центр речевой деятельности: «Мы разговариваем с собеседниками, которые нам отвечают, –такова человеческая действительность».
Отсюда – ответственная роль диалогов в художественной литературе. В драматических произведениях они доминируют безусловно, в эпических (повествовательных) тоже весьма значимы и порой занимают большую часть текста. Взаимоотношения персонажей вне их диалогов не могут быть выявлены сколько-нибудь конкретно и ярко.
В жизни, а потому и в литературе глубоко укоренен и монолог. Это – развернутое, пространное высказывание, знаменующее активность одного из участников коммуникации или не включенное в межличностное общение.
Различимы монологи обращенные и уединенные . Первые включены в общение людей, но иначе, чем диалоги. Обращенные монологи определенным образом воздействуют на адресата, но ни в коей мере не требуют от него безотлагательного, сиюминутного речевого отклика. Здесь один из участников коммуникации активен (выступает в качестве непрерывно говорящего), все иные пассивны (остаются слушателями). При этом адресатом обращенного монолога может быть и отдельное лицо, и неограниченно большое число людей (публичные выступления политических деятелей, проповедников, судебных и митинговых ораторов, лекторов). В подобных случаях имеет место иерархическая привилегированность носителя речи. Обращенные монологи (в отличие от реплик диалога) не ограничены в объеме, как правило, продуманы заранее и четко структурированы. Они могут воспроизводиться неоднократно (при полном сохранении смысла), в различных жизненных ситуациях. Для них в равной мере приемлемы и благоприятны как устная, так и письменная форма речи. Монолог, иначе говоря, гораздо менее, чем диалогическая речь, ограничен местом и временем говорения, он легко распространяется в шири человеческого бытия. Поэтому монологическая речь способна выступать как средоточие внеситуативных смыслов, устойчивых и глубоких. Здесь – ее несомненное преимущество перед репликами диалогов.
Обращенный монолог, как видно, составляет неотъемлемое звено культуры человечества. У его истоков–высказывания пророков и священнослужителей, а также выступления ораторов, игравшие, в частности, столь важную роль в жизни древних греков и римлян. Обращенно-монологическая речь, помнящая о своих ораторско-проповеднических истоках, охотно прибегает к внешним эффектам, опирается на правила и нормы риторики, нередко обретает патетический характер и внушающую, заражающую силу, вызывая энтузиазм и восторг, тревогу и негодование слушателей. Ныне эти возможности обращенного монолога ярко сказываются в митинговых речах.
Уединенные монологи – это высказывания, осуществляемые человеком либо в одиночестве (буквальном), либо в психологической изоляции от окружающих. Таковы дневниковые записи, не ориентированные на читателя, а также «говорение» для себя самого: либо вслух, либо, что наблюдается гораздо чаще, «про себя». Во внутренней речи, как показал Л.С. Выготский, языковые формы максимально редуцируются: «... даже если мы могли бы записать ее на фонографе, оказалась бы сокращенной, отрывочной, бессвязной, неузнаваемой и непонятной по сравнению с внешней речью».
Но и уединенные монологи не полностью исключены из межличностной коммуникации. Нередко они являются откликами на чьи-то слова, произнесенные ранее, и одновременно – репликами потенциальных, воображаемых диалогов. Уединенные монологи – неотъемлемая грань человеческой жизни. По словам современного ученого, «думать – значит, прежде всего, говорить с самим собой».
Монологическая речь составляет неотъемлемое звено литературных произведений. Высказывание в лирике – это от начала и до конца монолог лирического героя. Эпическое произведение организуется принадлежащим повествователю-рассказчику монологом, к которому «подключаются» диалоги изображаемых лиц. «Монологический пласт» значим и в речи персонажей эпических и драматических жанров. Формы явленности в литературе «говорящего человека», как видно, разнообразны. Но как и в какой мере присутствует в произведениях речь самого автора? Правомерно ли о нем говорить как о «носителе речи»? М.М. Бахтин на подобные вопросы отвечает так: «Первичный автор, если он выступает с прямым словом, не может быть просто писателем : от лица писателя ничего нельзя сказать (писатель превращается в публициста, моралиста, ученого и т.п.). Поэтому первичный автор облекается в молчание. Но это молчание может принимать различные формы выражения». В самом деле: в одних случаях (повествовательный сказ; ролевая лирика; драма, где говорят только действующие лица; произведения с «подставным» авторством, каковы, например, пушкинские «Повести Белкина») авторская позиция выражается сугубо опосредованно, не реализуясь в прямом слове, в других же (речь неперсонифицированного повествователя, скажем, в романах Л.Н. Толстого; «автопсихологическая» лирика, являющаяся самораскрытием поэта) она явлена в речи открыто и прямо. Нередко автор «поручает» выразить свое мироотношение, свои взгляды и оценки героям произведения. Присутствующие в словесно-художественном тексте высказывания, согласующиеся с авторской позицией и ее выражающие, вместе с тем никогда не исчерпывают того, что воплощено в произведении. Обращаясь к читателю, писатель изъясняется языком не прямых словесных суждений, а художественных образов и, в частности, образов персонажей как носителей речи.
Словесно-художественное произведение правомерно охарактеризовать как обращенный к читателю монолог автора. Монолог этот принципиально отличается от ораторских выступлений, публицистических статей, эссе, философских трактатов, где безусловно и необходимо доминирует прямое авторское слово. Он являет собой своеобразное надречевое образование – как бы «сверхмонолог», компонентами которого служат диалоги и монологи изображаемых лиц.
ВЕЩЬ
Мир вещей составляет существенную грань человеческой реальности, как первичной, так и художественно претворенной. Это – сфера деятельности и обитания людей. Вещь впрямую связана с их поведением, сознанием и составляет необходимый компонент культуры: «вещь перерастает свою «вещность» и начинает жить, действовать, «веществовать» в духовном пространстве». Вещи кем-то сделаны, кому-то принадлежат, вызывают к себе определенное отношение, становятся источником впечатлений, переживаний, раздумий. Они кем-то поставлены именно на данное место и верны своему назначению либо, напротив, почему-то находятся на чисто случайном месте и, не имея хозяина, утрачивают смысл, превращаются в хлам. Во всех этих гранях вещи, являющие собой либо ценности, либо «антиценности», способны представать в искусстве (в частности, в литературных произведениях), составляя их неотъемлемое звено. Степень привязанности к вещному различна – в прозе и поэзии, в литературе разных эпох, у писателей различных литературных направлений. Особенно ответственную роль образы вещей обрели в произведениях, пристально внимательных к быту, которые едва ли не преобладают в литературе, начиная с эпохи романтизма.
Один их лейтмотивов литературы XIX–XX вв. – вещь, сродная человеку, как бы сросшаяся с его жизнью, домом, повседневностью. Нечто близкое этому и у Л.Н. Толстого: свое, особое, живое лицо имеют и кабинет старого князя Волконского (он «был наполнен вещами, очевидно беспрестанно употребляемыми», которые далее описываются), и интерьеры дома Ростовых (вспомним волнение Николая, вернувшегося из армии в Москву, когда он увидел хорошо знакомые ломберные столы в зале, лампу в чехле, дверную ручку), и комната Левина, где на всем – и на тетради с его почерком, и на отцовском диване – «следы его жизни». Вещи как бы источают поэзию семьи и любви, уюта, душевной оседлости, а одновременно –высокой одухотворенности.
Многие из подобных вещей, обжитых человеком и знаменующих его благую связь с миром, –житейские украсы, призванные радовать глаз и сердце (чаще всего –разноцветные, пестрые, узорчатые). Этот род вещей укоренен в многовековой культуре человечества и, соответственно, в словесном искусстве. Так, сказители былин были пристально внимательны к тому, что ныне принято называть ювелирными изделиями. В исторически ранних поэтических жанрах вещь предстает как «необходимая принадлежность человека, как важное его завоевание, как нечто, определяющее своим присутствием его общественную стоимость»; «изображаемая с особой тщательностью и любовью», она «предлагается всегда в состоянии предельного совершенства, высшей законченности». Этот пласт словесной образности свидетельствует о характере быта наших далеких предков, окружавших себя предметами, «в большей или меньшей степени художественно обработанными».
Но в литературе XIX–XX вв. преобладает иное освещение вещного мира, в большей мере снижающепрозаическое, нежели возвышающе-поэтическое. У Пушкина (1830-х годов), еще более у Гоголя и в «послегоголевской» литературе быт с его вещным антуражем часто подается как унылый, однообразный, тяготящий человека, отталкивающий, оскорбляющий эстетическое чувство. Вспомним комнату Раскольникова, один угол которой был «ужасно острый», другой – «уж слишком безобразно тупой», или часы в «Записках из подполья», которые «хрипят, будто их душат», после чего раздается «тонкий, гаденький звон». Человек при этом изображается как отчужденный от мира вещей, на которые тем самым ложится печать запустения и мертвенности. Эти мотивы, часто сопряженные с мыслью писателей об ответственности человека за его ближайшее окружение, в том числе предметное, прозвучали и в «Мертвых душах» Гоголя (образы Манилова и, в особенности, Плюшкина), и в ряде произведений Чехова. В многочисленных случаях вещный мир связывается с глубокой неудовлетворенностью человека самим собой, окружающей реальностью.
Брезгливая отчужденность от мира вещей достигает максимума в произведениях Ж.-П. Сартра. У героя романа «Тошнота» (1938) вещи вызывают омерзение потому, что «уродливо само существование мира»; ему невыносимо их присутствие как таковое, что мотивируется просто: «тошнота – это я сам». Находясь в трамвае, герой испытывает непреодолимое отвращение и к подушке сидения, и к деревянной спинке, и к полоске между ними; в его ощущении все эти вещи «причудливые, упрямые, огромные»: «Я среди них. Они окружили меня, одинокого, бессловесного, беззащитного, они подо мной, они надо мной. Они ничего не требуют, не навязывают себя, просто они есть». И именно это герою невыносимо: «Я на ходу соскакиваю с трамвая. Больше я вынести не мог. Не мог вынести навязчивую близость вещей».
Литература XX в. ознаменовалась небывало широким использованием образов вещного мира не только как атрибутов бытовой обстановки, среды обитания людей, но и (прежде всего!) как предметов, органически срощенных с внутренней жизнью человека и имеющих при этом значение символическое: и психологическое, и «бытийное», онтологическое. Это углубление художественной функции вещи имеет место и тогда, когда она причастна глубинам человеческого сознания и бытия, позитивно значима и поэтична, сопряжена с тоской, безысходностью и холодной отчужденностью от реальности лирического героя, повествователя) персонажа.
Итак, вещная конкретность составляет неотъемлемую и весьма существенную грань словесно-художественной образности. Вещь и литературном произведении (как в составе интерьеров, так и за их пределами) имеет широкий диапазон содержательных функций. При этом вещи «входят» в художественные тексты по-разному. Чаще всего они эпизодичны, присутствуют в весьма немногих эпизодах текста, нередко даются вскользь, как бы между делом. Но иногда образы вещей выдвигаются на авансцену и становятся центральным звеном словесной ткани. Вспомним «Лето Господне» И.С. Шмелева–повесть, насыщенную подробностями богатого и яркого купеческого быта, или гоголевскую «Ночь перед рождеством» с обильными описаниями и перечислениями бытовых реалий и с сюжетом, «закрученным» вокруг вещей, каковы мешки Солохи, в которые «угодили» ее поклонники, и черевички царицы, иметь которые пожелала Оксана.
Вещи могут «подаваться» писателями либо в виде некоей «объективной» данности, бесстрастно живописуемой (вспомним комнату Обломова в первых главах романа И.А. Гончарова; описания магазинов в романе Э. Золя «Дамское счастье»), либо как чьи-то впечатления от увиденного, которое не столько живописуется, сколько рисуется единичными штрихами, субъективно окрашенными. Первая манера воспринимается как более традиционная, вторая – как сродная современному искусству. Как отметил А.П. Чудаков, у Ф.М. Достоевского «нет спокойно-последовательного изображения вещного наполнения квартиры, комнаты. Предметы как бы дрожат в ячеях туго натянутой авторской или геройной интенции – и этим выявляют и обнажают ее». Нечто подобное – у Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и многих писателей XX столетия.
«Говорящий человек» проявляет себя в речи диалогической и монологической. Диалоги (от др.-гр . dialogos - разговор, беседа) и монологи (от др. -гр . monos - один и logos - слово, речь) составляют наиболее специфическое звено словесно-художественной образности 3 . Они являются своего рода связующим звеном между миром произведения и его речевой тканью. Рассматриваемые как акты поведения и как средоточие мысли, чувства, воли персонажа, они принадлежат предметному слою произведения; взятые же со стороны словесной ткани, составляют феномен художественной речи.
Диалоги и монологи обладают общим свойством. Это речевые образования, обнаруживающие и подчеркивающие свою субъективную принадлежность, свое «авторство» (индивидуальное и коллективное), так или иначе интонированные, запечатлевающие человеческий голос , что отличает их от документов, инструкций, научных формул и иного рода эмоционально нейтральных, безликих речевых единиц. Диалог слагается из высказываний разных лиц (как правило, двух) и осуществляет двустороннее общение людей. Здесь участники коммуникации постоянно меняются ролями, становясь на какое-то время (весьма малое) то говорящими (т.е. активными), то слушающими (т.е. пассивными). В ситуации диалога отдельные высказывания возникают мгновенно 4 . Каждая последующая реплика зависит от предыдущей, составляя отклик на нее. Диалог, как правило, осуществляется цепью лаконичных высказываний, именуемых репликами .
Диалоги могут быть ритуально строгими и этикетно упорядоченными. Обмен церемониальными репликами (которые при этом склонны разрастаться, уподобляясь монологам) характерен для исторически ранних обществ и для традиционных фольклорных и литературных жанров. Но наиболее полно и ярко диалогическая форма речи проявляется в атмосфере непринужденного контакта немногих людей, которые ощущают себя друг другу равными. Как неоднократно отмечали лингвисты, диалогическая речь исторически первична по отношению к монологической и составляет своего рода центр речевой деятельности.
Отсюда - ответственная роль диалогов в художественной литературе. В драматических произведениях они доминируют безусловно, в эпических (повествовательных) тоже весьма значимы и порой занимают большую часть текста. Взаимоотношения персонажей вне их диалогов не могут быть выявлены сколько-нибудь конкретно и ярко.
В жизни, а потому и в литературе глубоко укоренен и монолог. Это - развернутое, пространное высказывание, знаменующее активность одного из участников коммуникации или не включенное в межличностное общение. Различимы монологи обращенные и уединенные 8 . Первые включены в общение людей, но иначе, чем диалоги. Обращенные монологи определенным образом воздействуют на адресата, но ни в коей мере не требуют от него безотлагательного, сиюминутного речевого отклика. Здесь один из участников коммуникации активен (выступает в качестве непрерывно говорящего), все иные пассивны (остаются слушателями). При этом адресатом обращенного монолога может быть и отдельное лицо, и неограниченно большое число людей (публичные выступления политических деятелей, проповедников, судебных и митинговых ораторов, лекторов). Обращенные монологи (в отличие от реплик диалога) не ограничены в объеме, как правило, продуманы заранее и четко структурированы. Они могут воспроизводиться неоднократно (при полном сохранении смысла), в различных жизненных ситуациях. Для них в равной мере приемлемы и благоприятны как устная, так и письменная форма речи. единенные монологи - это высказывания, осуществляемые человеком либо в одиночестве (буквальном), либо в психологической изоляции от окружающих. Таковы дневниковые записи, не ориентированные на читателя, а также «говорение» для себя самого: либо вслух, либо, что наблюдается гораздо чаще, «про себя». Уединенные монологи - неотъемлемая грань человеческой жизни. По словам современного ученого, «думать - значит прежде всего говорить с самим собой».
Монологическая речь составляет неотъемлемое звено литературных произведений. Высказывание в лирике - это от начала и до конца монолог лирического героя. Эпическое произведение организуется принадлежащим повествователю-рассказчику монологом, к которому «подключаются» диалоги изображаемых лиц. «Монологический пласт» значим и в речи персонажей эпических и драматических жанров. Это и внутренняя речь в ее специфичности, вполне доступная повестям и романам (вспомним героев Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского), и условные «реплики в сторону» в пьесах.
Словесно-художественное произведение правомерно охарактеризовать как обращенный к читателю монолог автора. Монолог этот принципиально отличается от ораторских выступлений, публицистических статей, эссе, философских трактатов, где безусловно и необходимо доминирует прямое авторское слово. Он являет собой своеобразное надречевое образование - как бы «сверхмонолог», компонентами которого служат диалоги и монологи изображаемых лиц.
Внутренний монолог в литературе
Изучение текста художественной прозы как многомерной и многоуровневой структуры всегда находилось в центре внимания лингвистов, о чём свидетельствует большое количество исследований, посвящённых текстовым категориям, их особенностям, месту и роли в художественном тексте .
Несмотря на то что внутренний мир персонажа - это смысловая доминанта художественного текста и тщательный анализ не только действий, но и мыслей, чувств и ощущений персонажа способствует более глубокому пониманию и интерпретации художественного текста, основные средства и способы репрезентации этой внутренней реальности, описания внутреннего состояния и ощущений персонажей в настоящее время изучены недостаточно полно.
Изучались в основном внешние проявления категории персонажа, например «персональная сетка» в структуре художественного произведения , характеристики речи персонажей , языковые средства описания их внешности . Внутренний мир персонажа и языковые средства, используемые для его репрезентации, не являлись до настоящего времени объектом специального исследования. Изучение языковых особенностей тех контекстов, где фиксируются мысли, чувства, ощущения, воспоминания, предчувствия, является тем инструментом, который позволяет раскрыть мотивацию поступков персонажа, сформировать его образ и, в конечном итоге, раскрыть авторский замысел.
Вопрос о средствах и способах репрезентации внутреннего мира персонажа художественного произведения тесно связан с понятием интроспекции персонажа, которая является частью его внутренней реальности. Представление об интроспекции персонажа художественного произведения основывается на понятии интроспекции, заимствованном из психологии.
В психологии под интроспекцией понимают наблюдение человека за собственным внутренним психическим состоянием, самонаблюдение, направленное на фиксацию своего хода мыслей, своих чувств и ощущений. Явление интроспекции тесно связано с развитием высшей формы психической деятельности - с осознанием человеком окружающей действительности, выделением у него мира внутренних переживаний, формированием внутреннего плана действий. Это сложный и многогранный процесс проявления различных сторон мыслительной и эмоциональной жизнедеятельности индивида.
В рамках данного исследования под интроспекцией персонажа понимается фиксируемое в тексте художественного произведения наблюдение персонажа за своими чувствами и эмоциями, попытка проанализировать те процессы, которые имеют место в его душе. При помощи интроспекции как литературного приёма внутренний, не наблюдаемый непосредственно мир персонажей художественного произведения становится доступен читателю.
Для того чтобы выделить интроспекцию в качестве объекта лингвистического исследования, необходимо отграничить явление интроспекции от смежных явлений. Данная статья посвящена разграничению понятия «интроспекция» и несобственно-прямой речи.
«Несобственно-прямая речь - прием изложения, когда речь персонажа внешне передается в виде авторской речи, не отличаясь от нее ни синтаксически, ни пунктуационно. Но несобственно-прямая речь сохраняет все стилистические особенности, свойственные прямой речи персонажа, что и отличает ее от авторской речи. Как стилистический прием несобственно-прямая речь широко используется в художественной прозе, позволяя создать впечатление соприсутствия автора и читателя при поступках и словах героя, незаметного проникновения в его мысли».
Принципиальные разногласия в подходе к данному явлению возникают между лингвистами, связанными в той или иной степени с психологической школой К. Фосслера, с одной стороны, и лингвистами, принадлежащими к Женевской школе, с другой стороны. В исследованиях лингвистов, относящихся к школе К. Фосслера, несобственно-прямая речь рассматривается как стилистический прием художественной речи и описывается со стороны ее психологической природы и эстетической эффективности. В дискуссионном порядке ими вводится ряд терминов: «завуалированная речь», «пережитая речь» , «речь как факт» и др. Решающее влияние на изучение несобственнопрямой речи во французской лингвистике оказывает теория представителя Женевской школы Ш. Балли. Для обозначения интересующего нас явления ученый вводит термин discours indirect libre («свободная косвенная речь»), нашедший признание во французской лингвистической литературе. Ш. Балли рассматривает несобственно-прямую речь, исходя из соссюровского деления языковой деятельности на язык (langue) и речь (parole), полагая, что прямая и косвенная речь относятся к области языка и представляют собой неизменные грамматические конструкции, «оживающие» в речи. В отличие от прямой и косвенной речи несобственно-прямая речь не имеет своего места в языковой системе, т.к. она возникает в сфере речи как результат одного из возможных употреблений косвенной речи.
М.М. Бахтин понимает данное явление как результат взаимодействия и взаимопроникновения речи автора и речи персонажа («чужой речи»). В несобственнопрямой речи автор пытается представить чужую речь, исходящую непосредственно от персонажа, без авторского посредничества. При этом автор не может быть полностью отстранен, и в результате получается наложение одного голоса на другой, «скрещение» в одном речевом акте двух голосов, двух планов - автора и персонажа. М.М. Бахтин называет эту особенность несобственно-прямой речи «двуголосостью» .
Итак, согласно определению М.М. Бахтина, несобственно-прямая речь - это такие высказывания (сегменты текста), которые по своим грамматическим и композиционным свойствам принадлежат одному говорящему (автору), но в действительности совмещают в себе два высказывания, две речевые манеры, два стиля . Подобное совмещение субъектных планов автора и персонажа (речевая контаминация голосов автора и персонажа) и составляет, по мнению М.М. Бахтина, сущность несобственно-прямой речи. Это изложение мыслей или переживаний персонажа, грамматически полностью имитирующее речь автора, но по интонациям, оценкам, смысловым акцентам следующее ходу мысли самого персонажа. Вычленить ее в тексте не всегда легко; иногда она маркируется определенными грамматическими формами, но в любом случае трудно определить, в какой точке она начинается или кончается. В несобственно-прямой речи мы опознаем чужое слово «по акцентуации и интонированию героя, по ценностному направлению речи» его оценки «перебивают авторские оценки и интонации».
Согласно природе изображаемых явлений несобственно-прямая речь дифференцируется на три разновидности.
1. Несобственно-прямая речь в узком, традиционном значении этого слова, т.е. как форма передачи чужого высказывания.
2. Несобственно-прямая речь, именуемая «внутренним монологом», как единственная состоятельная форма передачи внутренней речи персонажа, его «потока сознания».
3. Несобственно-прямая речь как манера изображения словесно неоформленных отрезков бытия, явлений природы и человеческих отношений с позиции переживающего их лица.
Как мы видим, внутренний монолог человека может трактоваться по-разному. Многие ученые рассматривают презентацию устной речи в художественных произведениях и выделяют разные случаи, которые относятся к несобственно-прямой речи и которые отражают различную глубину погружения героев в свой внутренний мир.
Т. Хатчинсон и М. Шорт выделяют следующие категории презентации речи персонажей: воспроизведение речевых актов персонажей - Narrator"s Representation of Speech Acts (NRSA), прямую речь - Direct Speech (DS), косвенную речь - Indirect Speech (IS), свободную косвенную речь - Free Indirect Speech (FIS) . М. Шорт указывает на существование таких категорий, как воспроизведение действий персонажей - Narrator"s Representation of Action (NRA), указание автором на то, что речевое взаимодействие состоялось - Narrator"s Representation of Speech (NRS) . Т. Хатчинсон считает возможным также выделить свободную прямую речь - Free Direct Speech .
Категория воспроизведения действий персонажей (NRA) не подразумевает наличие речи, а отражает действия персонажей («They embraced one another passionately», «Agatha dived into the pond»), определенные события («It began to rain», «The picture fell off the wall»), описание состояний («The road was wet», «Clarence was wearing a bow tie», «She felt furious»), а также фиксацию персонажами действий, событий и состояний («She saw Agatha dive into the pond», «She saw Clarence was wearing a bow tie»).
Прямая речь (DS) в художественном произведении может быть представлена по-разному: без комментариев автора, без кавычек, без кавычек и комментариев (FDS). Прямая речь раскрывает личность персонажа и его видение окружающей действительности наиболее ярко.
Косвенная речь (IS) используется для отражения точки зрения автора (Ermintrude demanded that Oliver should clear up the mess he had just made).
Свободная косвенная речь (FIS) актуальна для романов конца XIX-XX вв. и сочетает в себе черты прямой и косвенной речи. Свободная косвенная речь представляет собой категорию, в которой совмещаются голоса автора и персонажа.
Презентация мысли отличается от презентации речи тем, что в первом случае присутствуют глаголы и наречия, указывающие на
мыслительную деятельность. Первые три указанные выше категории (NRT, NRTA, IT) аналогичны соответствующим им категориям презентации речи.
Прямая мысль (DT) часто используется авторами для отражения внутренней мыслительной деятельности персонажей. Прямая мысль имеет форму, аналогичную драматическому монологу, когда не ясно, являются ли слова актера мыслью вслух или обращением к зрителям. Прямая мысль (DT) довольно часто используется для воспроизведения воображаемых бесед персонажей с окружающими и поэтому часто выступает в форме потока сознания.
Свободная косвенная мысль (FIT) показывает наиболее полное погружение персонажа в свое сознание. Эта категория отражает внутренний мир персонажа, который является недоступным для окружающих. Автор художественного произведения в этом случае не вмешивается в работу сознания персонажа и как бы уходит в сторону.
На наш взгляд, для лингвиста и в рамках возможного лингвистического подхода, дневниковые записи и внутренняя речь (ВР) представленные в художественных произведениях могут рассматриваться как результат экстериоризации интраперсональной коммуникации. Именно в процессе интраперсональной коммуникации раскрывается истинная сущность человека, поскольку, будучи наедине с самим собой, в отсутствии других людей, человек чувствует себя свободным, смело выражает свои мысли, чувства и ощущения.
Изучая внутреннюю речь с лингвистической точки зрения, считаем необходимым рассмотреть способы и формы организации ВР, ее лексические и синтаксические особенности, а также специфику функционирования в тексте художественного произведения. Проанализировав акты внутриречевой коммуникации, взяв за основу критерий расчлененности и объема, мы считаем, что наиболее логичным будет разделить все формы экстериоризированной внутренней речи на реплицированную BP, представляющую собой краткие реплики, и развернутую BP. B рамках развернутой внутренней речи в нашей работе будут выделены отдельно внутренний монолог (BM), внутренний диалог (ВД) и поток сознания (ПС). Для каждой из приведенных выше форм организации BP, мы рассмотрим особенности лексического наполнения, принципы синтаксической организации и специфику функционирования в тексте художественного произведения.
Реплицированная внутренняя речь является простейшей формой экстериоризации BP и может быть представлена монологической, диало-гизированной или комбинированной репликой. Следует отметить, что примеры с реплицирован-ной BP встречаются значительно реже по сравнению с примерами с развернутой BP и составляют всего лишь 37.74% от общей выборки. Монологическая реплика представляет собой изолированное высказывание, обладающее признаками монологической речи и не входящее в состав диалога.
Диалогизированная реплика представляет собой либо изолированное вопросительное предложение, либо несколько незначительных по объему вопросительных предложений, следующих друг за другом. B отличие от речи произнесенной, вопросы во BP не ориентированы на слушателя и не нацелены на получение конкретного ответа. Скорее всего, таким образом, герой отмечает для себя неясный или неизвестный ему момент действительности или выражает свое эмоциональное состояние.
Комбинированная реплика условно состоит из двух частей: одна из них представляет собой утверждение, а вторая - вопрос. Внутренние реплики отличаются краткостью и структурной простотой. Обычно они представляют собой простое предложение, или небольшое по объему сложное предложение. В лексическом плане для них характерно широкое использование междометий (grr, mmm, Hurrar!), слов с резко отрицательной коннотацией и даже нецензурных выражений. Синтаксической особенностью реплицированной ВР является наличие односоставных именных предложений и предложений с элиминированным подлежащим. В смысловом отношение, внутренние реплики представляют собой мгновенную реакцию персонажа на происходящее в мире окружающем его или в его собственном внутреннем мире.
Наряду с краткими репликами, ВР речь может принимать и развернутые формы. Внутренний монолог является основной и наиболее распространенной формой изображения ВР персонажей (49.14% от общей выборки). Имеются существенные отличия между монологом произнесенным и внутренним монологом. В частности, внутреннему монологу характерна обращенность, психологическая глубина, максимальная честность и открытость человека его произносящего. Именно во ВМ проявляется истинная сущность человека, которая обычно скрыта за масками социальных ролей и нормами общественного поведения.
Для создания полной картины такого лингвистического явления, как внутренний монолог, на наш взгляд представляется необходимым обозначить его функционально-семантические типы. Учитывая существующие классификации, критерий текстовой доминанты и результаты анализа фактического материала, в нашей работе будут выделены пять функционально-семантических типов ВМ: 1) аналитические (26.23%), 2) эмоциональные (11.94%), 3) констатирующие (24.59%), 4) побуждающие (3.28%), и 5) смешанные (33.96%).
Необходимо помнить, что классификация функционально-семантических типов ВМ носит условный характер. Мы можем говорить лишь об определенной степени доминирования или преобладания той или иной коммуникативной установки, либо о наличии нескольких текстовых доминант. Кроме того, использование того или иного вида ВМ зависит от стиля авторского повествования и художественной задачи, преследуемой автором в данном конкретном случае. Каждый тип внутреннего монолога имеет свои языковые особенности и выполняет определенные функции. В качестве примера рассмотрим ВМ смешанного типа, который является наиболее многочисленными, поскольку внутренняя речь, отражающая процесс мышления не может всегда развиваться в определенном, заранее заданном направлении. Для нее характерна смена тем и коммуникативных доминант.
Еще одной формой организации ВР в тексте художественного произведения является внутренний диалог. ВД интересен тем, что он отражает уникальную способность человеческого сознания не только воспринимать чужую речь, но и самому воссоздавать ее и адекватно реагировать. В результате рождается иная смысловая позиция, вследствие чего сознание диалогизиру-ется и предстает перед читателем в форме внутреннего диалога. Учитывая характер реакции и тему диалога, а так же критерий текстовой доминанты были выделены следующие функционально-семантические типы ВД: 1) диалог-допрос, 2) диалог-спор, 3) диалог-беседа, 4) диалог-размышление и 5) диалог смешанного типа.
Наиболее объемной и наименее расчлененной формой экстериоризации BP является поток сознания. Данная форма организации BP является самой немногочисленной (всего 12 примеров) и составляет 1.38% от общей выборки. ПС представляет собой непосредственное воспроизведение душевной жизни персонажа, его мыслей, ощущений и переживаний. Bыдвижение на первый план сферы бессознательного в значительной степени сказывается на технике повествования, за основу которой берется ассоциативное монтажное описание. ПС включает в себя множество случайных фактов и мелких событий, которые и порождают разнообразные ассоциации, в результате речь становится грамматически неоформленной, синтаксически неупорядоченной, с нарушением причинно-следственных связей.
С точки зрения участия в речи одного, двух и более людей выделяют монолог, диалог и полилог. Практически все существующие тексты охватываются этой лингвистической классификацией, но с определенной и своеобразной стороны. "Если подходить к изучению речи с широкой точки зрения, - пишет Г.М. Чумаков, - то оказывается, что она не существует вне этих форм: любое произведение, каким бы большим оно ни было, любое выступление - скажем, на митинге или в печати - представляет собой не что иное, как монолог".
Монолог
Монологической является научная, деловая, во многом публицистическая речь.
Беседы, разговоры двух или более лиц составляют сферу разговорно-обиходного стиля.
Однако чаще термин монолог применяют к художественной речи.
Монолог можно определить как компонент художественного произведения, представляющий собой речь, обращенную к самому себе или к другим. Монолог- это обычно речь от 1-го лица, не рассчитанная (в отличие от диалога) на ответную реакцию другого лица (или лиц), обладающая определенной композиционной организованностью и смысловой завершенностью.
Классический пример, иллюстрирующий сказанное, - монолог Чацкого из комедии Грибоедова "Горе от ума".
Не образумлюсь... виноват,
И слушаю, не понимаю,
Как будто все еще мне объяснить хотят.
Растерян мыслями... чего-то ожидаю.
(С жаром)
Слепец! Я в ком искал награду всех трудов!
Спешил!.. летел! дрожал! вот счастье, думал, близко.
Пред кем я давеча так страстно и так низко
Был расточитель нежных слов!
А вы! о Боже мой! кого себе избрали?
Когда подумаю, кого вы предпочли!
Зачем меня надеждой завлекли?
Зачем мне прямо не сказали,
Что все прошедшее вы обратили в смех?!
Что память даже вам постыла
Тех чувств, в обоих нас движений сердца тех,
Которые во мне ни даль не охладила,
Ни развлечения, ни перемена мест.
Дышал, и ими жил, был занят беспрерывно!
Сказали бы, что вам внезапный мой приезд,
Мой вид, мои слова, поступки - все противно, -
Я с вами тотчас бы сношения пресек,
И перед тем, как навсегда расстаться,
Не стал бы очень добираться,
Кто этот вам любезный человек?..
(Насмешливо)
Вы помиритесь с ним, по размышленьи зрелом.
Себя крушить, и для чего!
Подумайте, всегда вы можете его
Беречь, и пеленать, и спосылать за делом.
Муж-мальчик, муж-слуга, из жениных пажей -
Высокий идеал московских всех мужей. -
Довольно!.. с вами я горжусь моим разрывом.
А вы, сударь отец, вы, страстные к чипам:
Желаю вам дремать в неведеньи счастливом,
Я сватаньем моим не угрожаю вам.
Другой найдется, благонравный,
Низкопоклонник и делец,
Достоинствами, наконец,
Он будущему тестю равный.
Так! отрезвился я сполна,
Мечтанья с глаз долой - и спала пелена;
Теперь не худо б было сряду
На дочь и на отца
И на любовника-глупца,
И на весь мир излить всю желчь и всю досаду.
С кем был! Куда меня закинула судьба!
Все гонят! все клянут! Мучителей толпа,
В любви предателей, в вражде неутомимых,
Рассказчиков неукротимых,
Нескладных умников, лукавых простаков,
Старух зловещих, стариков,
Дряхлеющих над выдумками, вздором.
Безумным вы меня прославили всем хором.
Вы правы: из огня тот выйдет невредим,
Кто с вами день пробыть успеет,
Подышит воздухом одним,
И в нем рассудок уцелеет.
Вон из Москвы! сюда я больше не ездок.
Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету,
Где оскорбленному есть чувству уголок! -
Карету мне, карету!
(Уезжает).
Этот пример показывает важную композиционно-эстетическую роль монологов в составе художественного произведения. В монологе героя не только передаются его собственные размышления, переживания, но и нередко в нем заключены важные, ключевые для произведения идеи.
По сравнению с диалогом как общей формой коллективного общения, монолог - это особая, по словам акад. В.В. Виноградова, "форма стилистического построения речи, тяготеющая к выходу за пределы социально-нивелированных форм семантики и синтагматики". Иначе говоря, монолог- продукт индивидуального творчества, он требует тщательной литературной отделки.
С точки зрения языка монолог характеризуется такими признаками, как наличие в нем обращений, местоимений и глаголов 2-го лица, например: А вы! о Боже мой! Кого себе избрали?; Довольно!.. с вами я горжусь моим разрывом; Подумайте, всегда вы можете его беречь, и пеленать, и спосылать за делом.
Речевые типы монологов выделяются в зависимости от присущих им функций: рассказ о событии, рассуждение, исповедь, самохарактеристика и др.
Так, для монолога повествовательного типа характерны фразы, в которых видо-временные формы глагольных сказуемых выражают последовательность действий, движение событий. Вот характерный отрывок из поэмы М.Ю. Лермонтова "Мцыри":
Однажды русский генерал
Из гор к Тифлису проезжал;
Ребенка пленного он вез.
Тот занемог. Не перенес
Трудов далекого пути.
Он был, казалось, лет шести;
Как серна гор, пуглив и дик
И слаб и гибок, как тростник.
Но в нем мучительный недуг
Развил тогда могучий дух
Его отцов. Без жалоб он
Томился - даже слабый стон
Из детских губ не вылетал,
Он знаком пищу отвергал
И тихо, гордо умирал.
Из жалости один монах
Больного призрел, и в стенах
Хранительных остался он,
Искусством дружеским спасен.
Для монолога-рассуждения типичны синтаксические построения, содержащие умозаключения, многочисленные вопросительные предложения, констатацию фактов, разнообразные конструкции, передающие логическую связь явлений: причинно-следственные, условные, уступительные, изъяснительные. В качестве примера можно привести знаменитый монолог Гамлета из одноименной трагедии В. Шекспира (пер. Мих. Лозинского).
Быть или не быть - таков вопрос;
Что благородней духом - покоряться
Пращам и стрелам яростной судьбы
Иль, ополчась па море смут, сразить их
Противоборством? Умереть, уснуть -
И только; и сказать, что сном кончаешь
Тоску и тысячу природных мук,
Наследье плоти, - как такой развязки
Не жаждать? Умереть, уснуть. - Уснуть!
И видеть сны, быть может? Вот в чем трудность;
Какие сны приснятся в смертном сне,
Когда мы сбросим этот бренный шум, -
Вот что сбивает нас, вот где причина
Того, что бедствия так долговечны;
Кто снес бы плети и глумленье века,
Гнет сильного, насмешку гордеца,
Боль презренной любви, судей медливость,
Заносчивость властей и оскорбленья,
Чинимые безропотной заслуге,
Когда б он сам мог дать себе расчет
Простым кинжалом? Кто бы плелся с ношей,
Чтоб охать и потеть под нудной жизнью,
Когда бы страх чего-то после смерти -
Безвестный край, откуда нет возврата
Земным скитальцам, - волю не смущал,
Внушая нам терпеть невзгоды наши
И не спешить к другим, от нас сокрытым?
Так трусами нас делает раздумье,
И так решимости природный цвет
Хиреет под налетом мысли бледным,
И начинанья, взнесшиеся мощно,
Сворачивая в сторону свой ход,
Теряют имя действия. Но тише!
Офелия? - В твоих молитвах, нимфа,
Все, чем я грешен, помяни.
Монолог-исповедь объединяет, как правило, повествовательные формы речи с формами рассуждений. Яркий пример - монолог главного героя поэмы М.Ю. Лермонтова "Мцыри":
"Ты слушать исповедь мою
Сюда пришел, благодарю.
Все лучше перед кем-нибудь
Словами облегчить мне грудь;
Но людям я не делал зла,
И потому мои дела
Не много пользы вам узнать;
А душу можно ль рассказать?
Я мало жил, и жил в плену.
Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог.
Я знал одной лишь думы власть,
Одну - но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
От келий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.
Я эту страсть во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской;
Ее пред небом и землей
Я ныне громко признаю
И о прощенье не молю".
Элементы исповеди есть и в монологах Чацкого, Гамлета, чем и объясняется эмоциональность, взволнованность, приподнятость речи. Вообще следует сказать, что в художественном произведении редко строго соблюдается чистота "жанра". Обычно, выполняя многообразные функции, монолог совмещает в себе черты и повествования, и рассуждения, и исповеди, с преобладанием одной из них.
В монологах разных типов широко и свободно используются разговорная, экспрессивно окрашенная лексика, междометия, разговорные и разговорно-экспрессивные синтаксические построения, в том числе конструкции диалогической речи. В этом сказывается влияние диалогической речи на монологическую, а также отсутствие четких границ между монологом и диалогом. Вот характерный пример из книги актера М. Козакова "Третий звонок":
Есть во всем, что происходит сегодня, суетность. А суетиться перед лицом вечности не след. У нас в совке умели как-то быстро-быстро закопать кого-то, потом раскопать и опять закопать. Сменить могильный памятник, перехоронить, даже украсть кость на память. И такое было. Кажется, у Николая Васильевича Гоголя свистнули при перезахоронении. Забальзамировать фараона, построить мавзолей, выставить на публичное осмотрение, потом и другого туда же. Несколько лет, что они рядом лежали, в сравнении с вечностью - минуты. Глядишь - одного вынесли (как говорят в народе, "обратно покойника несут") под шумок, ночью, закопали быстро и - белый мраморный бюст у Кремлевской стены. Другой теперь без охраны долеживает, своей очереди дожидается, пока народ православный думает-гадает, как с ним обойтись. Но народу православному не до того, сначала надо убиенного царя куда-то пристроить. Куда, в принципе не ясно, но с костями бы ошибки не вышло. А фараоновы мощи куда? Так пускай пока под стеклом полежат. Так оно и привычнее нам, а там само как-нибудь решится. Усатый памятник снять - лысый пока сохранить.
Особая разновидность монолога - внутренний монолог, цель которого - выразить, имитировать процесс эмоционально-мыслительной деятельности человека, "поток сознания". Для такого монолога типичны прерывистость речи, незаконченные фразы, не связанные внешне друг с другом синтаксические построения. Монологи подобного типа могут воспроизводиться в строго литературных формах, но могут включать в себя и грамматически не оформленные элементы, чтобы показать работу не только сознания, но и подсознания. Таков, например, поток внутренней речи Анны Карениной перед самоубийством:
"Туда! - говорила она себе, глядя в тень вагона, на смешанный с углем песок, которым были засыпаны шпалы, - туда, на самую середину, и я накажу его и избавлюсь от всех и от себя".
Она хотела упасть под поравнявшийся с ней серединою первый вагон. Но красный мешочек, который она стала снимать с руки, задержал ее, и было уже поздно: середина миновала ее. Надо было ждать следующего вагона. Чувство, подобное тому, которое она испытывала, когда купаясь готовилась войти в воду, охватило ее, и она перекрестилась. Привычный жест крестного знамения вызвал в душе ее целый ряд девичьих и детских воспоминаний, и вдруг мрак, покрывавший для нее все, разорвался, и жизнь предстала ей на мгновение со всеми ее светлыми прошедшими радостями. Но она не спускала глаз с колес подходящего второго вагона. И ровно в ту минуту, как середина между колесами поравнялась с нею, она откинула красный мешочек и, вжав в плечи голову, упала под вагон на руки и легким движением, как бы готовясь тотчас же встать, опустилась на колена. И в то же мгновение она ужаснулась тому, что делала. "Где я? Что я делаю? Зачем?" Она хотела подняться, откинуться, но что-то огромное, неумолимое толкнуло ее в голову и потащило за спину. "Господи! Прости мне все!" - проговорила она, чувствуя невозможность борьбы. Мужичок, приговаривая что-то, работал над железом. И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла...
До сих пор речь шла о монологе как компоненте художественного произведения. Но существует и особый, самостоятельный тип монологической речи - сказ. По определению акад. В.В. Виноградова, "сказ - это своеобразная литературно-художественная ориентация на устный монолог повествующего типа, это художественная имитация монологической речи, которая, воплощая в себе повествовательную фабулу, как будто строится в порядке ее непосредственного говорения". Авторская речь сказа поглощает диалог, речь героев сливается с ней в единую стилизованную речь, диалогические черты которой имитируют живую речь. В сказе широко используются просторечие, диалектизмы, профессиональная речь. Обращение к сказу часто связано со стремлением писателей вывести на сцену нового героя (обычно далекого от книжной культуры - Н.С. Лесков, В.И. Даль, "Вечера на хуторе близ Диканьки" Н.В. Гоголя) и новый жизненный материал. Сказ дает этому герою возможность наиболее полного самовыражения, свободного от авторского "контроля". И читатель в результате остро переживает новизну и двуплановость построения рассказа, сочетание двух, нередко противоположных оценок - автора и рассказчика, как, например, в рассказах М.М. Зощенко.
Любитель
"Лично я, братцы мои, к врачам хожу очень редко. То есть в самых крайних, необходимых случаях. Ну, скажем, возвратный тиф или с лестницы ссыпался.
Тогда, действительно, обращаюсь за медицинской помощью. А так я не любитель лечиться. Природа, по-моему, сама органы регулирует. Ей видней.
Конечно, я иду не против медицины. Эта профессия, я бы сказал, тоже необходимая в общем механизме государственного строительства. Но особенно увлекаться медициной, я скажу, нехорошо.
А таких любителей медицины как раз сейчас много.
Тоже вот мой приятель Сашка Егоров. Форменно залечился. А хороший был человек. Развитой, полуинтеллигентный, не дурак выпить. И вот пятый год лечится.
Совершенно ясно, что используемые в рассказе речевые обороты не свойственны автору, который как бы надевает на себя языковую маску персонажа, чтобы острее, непосредственнее и рельефнее обрисовать его.
За пределами художественных произведений к монологической речи можно отнести такие жанры устной речи, как речь оратора, лектора, выступление по радио, телевидению.
Подберите из художественной литературы или составьте на любую тему монолог (в форме исповеди, или внутреннего монолога, или сказа).
Диалог
Диалог - форма речи, которая характеризуется сменой высказываний двух говорящих. Каждое высказывание, называемое репликой, обращено к собеседнику.
Диалогическая речь - первичная, естественная форма языкового общения. Если иметь в виду бытовые диалоги, то это, как правило, речь спонтанная, неподготовленная, в наименьшей степени литературно обработанная.
Для диалогической речи характерна тесная содержательная связь реплик, выражающаяся чаще всего в вопросе и ответе:
- Где ты был?
- На работе задержался.
Реплики могут также выражать добавление, пояснение, распространение, согласие, возражение, побуждение и т. д.
Обычно обмен репликами опирается на известную собеседникам ситуацию и общие знания. Поэтому диалогическая речь часто неполна, эллиптична, например:
- Сюда!
- Сырку?
Ситуация (говорящие идут мимо магазина) позволяет максимально уплотнить речь.
- Математика когда?
- Последняя пара.
Это из разговора студентов о расписании лекций.
Информативная неполнота диалогической речи восполняется также интонацией, жестами, мимикой.
Диалоги могут иметь и более сложный характер. Информация, содержащаяся в репликах, нередко не исчерпывается значениями языковых единиц. Например:
А. Мы поедем в воскресенье за город?
Б. Нет, у меня сел аккумулятор.
Вот как комментирует этот пример К.А. Долинин. Помимо той информации, которая явно присутствует в диалоге, мы можем извлечь еще и следующую информацию:
Что у Б есть машина;
Что Б считает, что А имеет в виду поездку на машине;
Что совместные поездки А и Б за город, по всей вероятности, дело обычное и (или) что вопрос о такой поездке уже ставился;
Что отношения между А и Б таковы, что А считает себя вправе рассчитывать на совместную поездку за город.
Если же А и Б муж и жена и до этого времени они были в ссоре, то вопрос А- завуалированное предложение помириться, а ответ Б - отказ, но не окончательный. Получается, что самое важное в сообщении прямо не выражено, но каким-то образом извлекается из сказанного. Смысл реплик, как показывает пример, часто не покрывается их языковыми значениями и свидетельствует не только о структурной, но и смысловой сложности диалога. Полное его понимание определяется знанием условий, ситуации разговора, речевых навыков говорящих и другими факторами.
В художественной литературе, публицистике диалоги выступают как яркий стилистический прием, средство оживления рассказа. Например:
Через несколько дней чистильщик обуви, усаживая своего постоянного клиента, рассказал ему о том, что в пожаре сгорел их "районный" сумасшедший, псих Гижи-Кола.
Как же он сгорел?.. - рассеянно спросил клиент.
Да кто его знает? Сделал пожар и сгорел.
В дурдом его надо было посадить. Хорошо еще, что не убил никого.
Да нет, он добрый был. Такого доброго человека я еще не видел, - покачал головой чистильщик, и ему стало стыдно за то, что много раз он брал у юродивого деньги и ни разу не вычистил ему его старые, разбитые башмаки.
А Христос таким ноги мыл, - словно отвечая на его мысли, неожиданно произнес клиент, и чистильщик вдруг почувствовал от этих слов жуткий страх, словно Кола мог пожаловаться на него Христу.
Но Кола был добрым человеком и этого не сделал.
Это концовка повести Михаила Гиголашвили "Похлебка для человечества". Цитированный диалог выполняет несколько функций. Во-первых, он разнообразит речь, сменяя авторский монолог диалогом, во-вторых, воспроизводит живую речь, характеризующую персонажей, в-третьих, мягко, ненавязчиво выражает главную мысль, "мораль" повести, которая в изложении от автора могла бы показаться излишне нравоучительной. Большую роль играют в диалоге и авторские ремарки, комментарии, направляющие читательское восприятие.
В диалоге обычно раскрываются характеры. Он - средство создания образа, причем этот образ воплощает в себе подробное описание внешнего и внутреннего облика персонажа.
Художественно-эстетические функции диалогов многообразны, они зависят от индивидуального стиля писателя, от особенностей и норм того или иного жанра и от других факторов.
В публицистике, в газете используются два вида диалогов. Во-первых, диалог информационный. Он относительно прост в структурном отношении, нейтрален - в стилистическом. Диалогическое развитие линейно, реплики либо прямо дополняют друг друга содержательно, либо образуют замкнутое вопросно-ответное единство, например:
- Ведь это вроде как восточная легенда получается?
- Да, войди в любой дом, и везде свои предания.
"Газетный диалог, - пишет В.В. Одинцов, имея в виду первый тип диалога, - в принципе враждебен стихии разговорной речи, что вполне понятно и оправданно, поэтому "отклонение от нормы" (а нормативным, "нулевым" можно считать диалог информационного типа) связано со структурно-семантическим усложнением отношений между репликами и - что еще более характерно - между репликами и окружающим их текстом".
Второй тип диалога в газете можно назвать сюжетным. Информационный диалог по сути дела формален, структурно независим, не связан с "сюжетом" газетного материала (содержание его легко можно было бы передать и без помощи диалога), это чисто внешняя диалогизация текста. Сюжетный же диалог оказывается конструктивно значимым. Автор в этом случае стремится к созданию "драматизма" изображаемого, к созданию "диалогического напряжения", в основе которого лежит некоторое противоречие в отношениях реплик (или реплик и текста), например, мы ждем утверждение, а получаем отрицание, как в статье об очередном создателе всемирного языка ("Язык для всей планеты"):
Что послужило фундаментом для создания вашего языка?
Создавать ничего не пришлось, - прозвучало неожиданно. - Речь идет только об оформлении всеобщего языка, понятного различным народам...
Здесь действует эффект "нарушения ожидания". Вместо ожидаемого "нормального" ответа: Фундаментом послужило то-то и то-то, следует неожиданная отрицательная реплика.
Стилистические ресурсы диалога весьма значительны. Далеко не случайно, что форма диалогической речи (чередование реплик) издавна использовалась в философско-публицистическом жанре, например диалоги Платона, Галилея и других. Современные дискуссии, интервью, "беседы за круглым столом" и другие жанры также используют форму диалогов, правда не всегда удачно: часто в них не звучит подлинно живая диалогическая речь.
Напишите диалог в разговорном стиле, а затем преобразуйте его в диалог из воображаемого произведения художественной литературы. Чем они отличаются?
Полилог
Полилог - разговор между несколькими лицами. Полилог в принципе не противопоставляется диалогу. Общее и главное для обоих понятий - мена, чередование говорящих и слушающих. Количество же говорящих (больше двух) не изменяет этого принципа.
Полилог- форма естественной разговорной речи, в которой участвуют несколько говорящих, например семейная беседа, застолье, групповое обсуждение какой-либо темы (политическое событие, спектакль, литературные произведение, спорт и т. д.). Общие черты диалога - связанность реплик, содержательная и конструктивная, спонтанность и др. - ярко проявляются и в полилоге. Однако формальная и смысловая связь реплик в полилоге более сложна и свободна: она колеблется от активного участия говорящих в общей беседе до безучастности (например, красноречивого молчания) некоторых из них.
Современная лингвистика (точнее, одна из ее отраслей - социолингвистика) исследует закономерности, этикетные правила ведения полилогов в тех или иных группах, коллективах (социумах). Так, у некоторых народов в разговор родственников по крови не имеют права вступать свойственники.
Широко используется полилог в художественной литературе, театре, кино. Это прежде всего массовые сцены, позволяющие представить масштабные события, показать народ не как безликую массу, толпу, а как собрание характеров, типов. Многоголосие полилога позволяет решать эти сложные художественные задачи.
В качестве яркой иллюстрации можно привесш заключительную сцену из "Бориса Годунова" Пушкина:
Расступитесь, расступитесь Бояре идут.
(Они входят в дом.)
Один из народа
Зачем они пришли?
А верно приводить к присяге Феодора Годунова.
В самом деле? - слышишь, какой в доме шум! Тревога, дерутся...
(Отворяются двери. Мосалъский является на крыльце.)
Мосальский
Народ! Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. (Народ в ужасе молчит.)
Что же вы молчите? кричите: да здравствует царь Дмитрий Иванович!
Народ безмолвствует.
Подберите полилог из любой пьесы, например А.Н. Островского или А.П. Чехова. Выражается ли в подобранном вами полилоге авторская позиция? Если да, то каким образом?
«Говорящий человек» проявляет себя в речи диалогической и монологической. Диалоги (от др.-гр . dialogos -- разговор, беседа) и монологи (от др. -гр . monos -- один и logos -- слово, речь) составляют наиболее специфическое звено словесно-художественной образности 3 . Они являются своего рода связующим звеном между миром произведения и его речевой тканью. Рассматриваемые как акты поведения и как средоточие мысли, чувства, воли персонажа, они принадлежат предметному слою произведения; взятые же со стороны словесной ткани, составляют феномен художественной речи.
Диалоги и монологи обладают общим свойством. Это речевые образования, обнаруживающие и подчеркивающие свою субъективную принадлежность, свое «авторство» (индивидуальное и коллективное), так или иначе интонированные, запечатлевающие человеческий голос , что отличает их от документов, инструкций, научных формул и иного рода эмоционально нейтральных, безликих речевых единиц. Диалог слагается из высказываний разных лиц (как правило, двух) и осуществляет двустороннее общение людей. Здесь участники коммуникации постоянно меняются ролями, становясь на какое-то время (весьма малое) то говорящими (т.е. активными), то слушающими (т.е. пассивными). В ситуации диалога отдельные высказывания возникают мгновенно 4 . Каждая последующая реплика зависит от предыдущей, составляя отклик на нее. Диалог, как правило, осуществляется цепью лаконичных высказываний, именуемых репликами .
Диалоги могут быть ритуально строгими и этикетно упорядоченными. Обмен церемониальными репликами (которые при этом склонны разрастаться, уподобляясь монологам) характерен для исторически ранних обществ и для традиционных фольклорных и литературных жанров. Но наиболее полно и ярко диалогическая форма речи проявляется в атмосфере непринужденного контакта немногих людей, которые ощущают себя друг другу равными. Как неоднократно отмечали лингвисты, диалогическая речь исторически первична по отношению к монологической и составляет своего рода центр речевой деятельности.
Отсюда -- ответственная роль диалогов в художественной литературе. В драматических произведениях они доминируют безусловно, в эпических (повествовательных) тоже весьма значимы и порой занимают большую часть текста. Взаимоотношения персонажей вне их диалогов не могут быть выявлены сколько-нибудь конкретно и ярко.
В жизни, а потому и в литературе глубоко укоренен и монолог. Это -- развернутое, пространное высказывание, знаменующее активность одного из участников коммуникации или не включенное в межличностное общение. Различимы монологи обращенные и уединенные 8 . Первые включены в общение людей, но иначе, чем диалоги. Обращенные монологи определенным образом воздействуют на адресата, но ни в коей мере не требуют от него безотлагательного, сиюминутного речевого отклика. Здесь один из участников коммуникации активен (выступает в качестве непрерывно говорящего), все иные пассивны (остаются слушателями). При этом адресатом обращенного монолога может быть и отдельное лицо, и неограниченно большое число людей (публичные выступления политических деятелей, проповедников, судебных и митинговых ораторов, лекторов). Обращенные монологи (в отличие от реплик диалога) не ограничены в объеме, как правило, продуманы заранее и четко структурированы. Они могут воспроизводиться неоднократно (при полном сохранении смысла), в различных жизненных ситуациях. Для них в равной мере приемлемы и благоприятны как устная, так и письменная форма речи. единенные монологи -- это высказывания, осуществляемые человеком либо в одиночестве (буквальном), либо в психологической изоляции от окружающих. Таковы дневниковые записи, не ориентированные на читателя, а также «говорение» для себя самого: либо вслух, либо, что наблюдается гораздо чаще, «про себя». Уединенные монологи -- неотъемлемая грань человеческой жизни. По словам современного ученого, «думать -- значит прежде всего говорить с самим собой».
Монологическая речь составляет неотъемлемое звено литературных произведений. Высказывание в лирике -- это от начала и до конца монолог лирического героя. Эпическое произведение организуется принадлежащим повествователю-рассказчику монологом, к которому «подключаются» диалоги изображаемых лиц. «Монологический пласт» значим и в речи персонажей эпических и драматических жанров. Это и внутренняя речь в ее специфичности, вполне доступная повестям и романам (вспомним героев Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского), и условные «реплики в сторону» в пьесах.
Словесно-художественное произведение правомерно охарактеризовать как обращенный к читателю монолог автора. Монолог этот принципиально отличается от ораторских выступлений, публицистических статей, эссе, философских трактатов, где безусловно и необходимо доминирует прямое авторское слово. Он являет собой своеобразное надречевое образование -- как бы «сверхмонолог», компонентами которого служат диалоги и монологи изображаемых лиц.